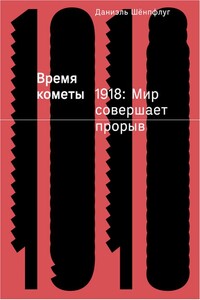Анна Ахматова. Когда мы вздумали родиться | страница 54
Мы живем не в последовательной смене впечатлений, а их органическим соединением и, например, 5 марта 1963 года, когда Ахматова пригласила к себе на ужин меня и Бродского, отпраздновать 10 лет со смерти Сталина, 10 лет без его кровавых бань, мне сегодняшнему гораздо ближе по времени, чем совсем недавнее пропагандистское телешоу «Имя России», которое прославляло его. Яркая убедительность 120-летия Ахматовой как чего-то живого и до сих пор длящегося обеспечивается двумя обстоятельствами. Тем, что память моя, которую, когда я был молод, она называла хищной, в достаточной степени остается при мне, и тем, что запомненное тогда мною не окостенело раз и навсегда, а в продолжение полувека, прошедшего с ее смерти, наполняется и развивается. Таков был ее метод разговора, не говоря уже письма. Таков был ее метод существования в культуре, взаимодействия с ней.
Те, кто видел Ахматову, чаще всего передавали впечатление от величественности ее образа словом «королева». Мне, кажется, тут есть некоторая путаница. Ни на одну из известных нам королев, взять что Марию-Антуаннету, что Елизавету Первую Английскую, что нынешнюю, она не походила. Скорее ощущение грандиозности и неприступности, исходившее от нее, сочетание с безмолвностью, неподвижностью, а также появившейся к старости грузностью, вызывало в памяти нашей Екатерину Великую. Но я, до сих пор пораженный редкостностью этого существа по имени Анна Ахматова, сравнил бы ее с белым единорогом, несущим, как говорят нам рассказы о нем, гибель любому, кто попадется ему навстречу. Всем, кроме чистой девы. Одна она может его укротить и сделать ручным. Ахматова, удушаемая смрадом эпохи, испачканная ее кровью, была, если продолжать метафору, этим дивным чудищем и его укротительницей. У тех, кто что-то знает о ней, звук ее имени включает в мозгу реле, которое как «пятью пять двадцать пять» создает картинку ее трагической судьбы. Трехсотая с передачею, муж в могиле, сын в тюрьме, революция, вышвырнувшая ее из декораций Cеребряного века в холод и тьму пустой улицы, террор, гибель самых близких людей, страшная война, страшная блокада, гражданская смерть после постановления 46-го года. Но сколь ни внушительно случившееся с ней, судьба не уникальная. Такова, что называется, норма жизни. Все мучаются.
Судьба Ахматовой только сконцентрировала мучения. Несравненно важнее то, что над жесткой судьбой ее, над всем, что мы привыкли выдавать за ее судьбу, стоит сияние другой ее судьбы, во-первых, человека творящего, во-вторых – поэта. «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано, почему же нам стало светло?» Эти строчки именно об этом. «Но так близко подходит чудесное, к развалившимся грязным домам, никому, никому не известное, но от века желанное нам». С того дня, как я увидел Ахматову, я читаю эти ее стихи непривязанно к ландшафту послереволюционной, или какой угодно другой разрухи, но как разгадку механизма мироздания. Я застал ее в сравнительно благополучные годы. Литфонд выделил ей под дачу дощатый домик в Комарове. В Ленинграде у нее была собственная комната в квартире вместе с семьей ее бывшего мужа. Издательства предлагали переводческую работу. Этим, однако, только оттенялось висевшее над всем неблагополучие. Как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в глаза. Ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот. Неблагополучие было константой жизни, бездомности, неустроенности, скитальчества. Жалеть ли нам ее? Не стоит. Она победительница. Она не дала тяжести горя раздавить себя. Мы хотим жить весело. Нам нечего побеждать ни при жизни, ни по смерти. 120 лет существования – не наш срок».