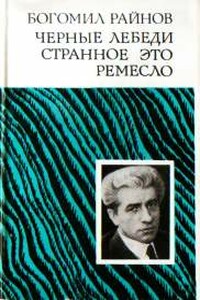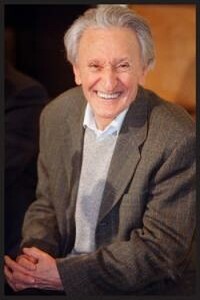Избранное | страница 47
До осени, когда я отправился в город в гимназию, я успел придумать несколько способов убийства Отченаша, но все они казались мне слишком милосердными. У меня не хватало воображения, чтоб придумать моему отчиму достаточно тяжкую смерть. Не хватило у меня и храбрости, чтобы постараться где-нибудь встретиться с Димкой, мама два раза приходила домой, но ни о чем не заговаривала, будто и не знала ничего, но бабушка сказала мне, что мама все знает. Много раз возвращался я к этим воспоминаниям, до завтра мог бы описывать все сначала, и все равно понимаю, что не могу описать то состояние безумия, восторга, беспамятства и счастья, а только вижу, как над моими воспоминаниями подымается дым. Ни следа пламени, ни следа догорающих углей, а ведь было это как пожар. Я пробежал через этот пожар, и, как ни удивительно мне самому, ничто во мне не опалено и не сожжено; птица, если пролетит через такой огонь, упадет в пламя, бабочка, если порхнет над ним, тут же скорчится в огне, а вот я и сквозь пламя прошел и по горящим углям пробежал, и ни следа от ожогов! Ах, как я мечтал убить, убить жестоко, так чтоб обмерли от ужаса и Нижнее Лихо, и Выселки, и потом погибнуть самому мужественно и спокойно и лежать достойно и величественно, как не лежал еще никто, и чтоб все вокруг меня были страшно опечалены, чтоб мир погрузился в глубокую скорбь и почувствовал, как отовсюду сочится ужас.
И — ничего!
Я не убил, не погиб сам и тем более никого не опечалил и не нагнал ни на кого ужаса!
Молчаливо и тайно унес я с собой свою боль, она въелась в мою душу, затянулась тонкой пленкой, и лишь иногда эта пленка рвется и начинает слезиться. Упадет капля, отзовется печальным звоном в моей душе, и эхо ее заглохнет, не затронув ничей слух. Видно, и ненавидеть нельзя постоянно, ненависть утомляет, истощает, высасывает все силы. В сущности, я только теперь начинаю понимать, что и ненависть и любовь — точно трава, они пьют наши соки, и потому, если человек доживает до глубокой старости, его близкие предают земле лишь его тело. Никаких соков в нем уже не осталось, одно только до крайних пределов высосанное любовью и ненавистью тело — как истощенная пашня.
…На зимние каникулы я не вернулся в деревню, с учителем Апостоловым мы ходили в горы, такие нетронутые снега я видел впервые в жизни. Там не было даже следов зверей или птиц. Когда я вернулся в городок и затопил у себя в комнате, когда печка весело загудела и стекла запотели, я долго сидел, глядя на окошко: ледяная кора сползла со стекол, по ним стекали тонкие ручейки, будто окно расплакалось. Передо мной на столе лежали Димкины носки, я смотрел на них и думал, что я привезу Димку к себе, мы будем сидеть здесь вдвоем, смотреть, как окно плачет мокрыми стеклами, будем держаться за руки и тоже плакать. Знаю, что это глупо, но в те каникулы мне очень хотелось, чтоб Димка была со мной, печка гудела, а мы бы плакали вдвоем. Я воображал, что если б она знала, как я сижу сейчас в комнате, засмотревшись на мокрые стекла, то, чем бы она ни была занята, она бросила бы работу и тоже расплакалась.