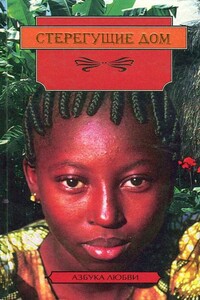Дни, когда все было… | страница 55
И, конечно, Анну не обделил щедрым эпитетом. Вадя первый на свете, кто начал называть ее «писательницей», отчего у благоверной от спазма смущения холодел затылок. Она-то полагала, что писатели – это Достоевский, Маркес, Бальзак всякий и далее по курсу. В крайнем случае – Франсуаза Саган. А оказывается, себя тоже можно писателем назначить, что, не стесняясь, делали разные бесстыжие московские параноики.
В Питере талантливый человек живет тихо, кошачье дерьмо из-под кровати выгребает и грудью чахлой вперед не лезет. Живет как птица божья. Но в столице так долго не протянешь. Об этом Вадим с яростью проповедовал Анне. Она же годами сопротивлялась: это стыдно – нагло себя нахваливать, важничать и самовольно вывешивать свою физиономию на доску почета, пользуясь наступившей эрой всеобщего самоизбирательного права…
– Ты дура. У тебя шоры на глазах. Мозговинкой пошевели немного. – От пафоса и влитого внутрь градуса дикция Вадима становилась свистящей, как у шамана. – Не пропихивать, а проникать в верхние слои, – раздраженно поправлял и, присасывая, закусывал растекающимся глазом яичницы.
Лететь в верхние слои атмосферы, где полезный горный воздух, где все получается и нет толкотни, – пушкинские покой и воля, одним словом… Если получишь пропуск туда, в висячие сады Семирамиды, в мир везучих и благоденствующих, то дела уже пойдут сами по себе, и деньги потекут, и двери будут открываться сами собою. Словом, только плескайся, как бактерия в питательном бульоне…
Какой вздор, однако! Но оно и верно, так и есть. Так и есть…
Осмысленная, первая, стадия опьянения у Вадима протекала незаметно для непривычного глаза. В том смысле, что глаз не чуял кондиции, принимал за чистую монету Вадюшину проповедь. Принимала и Анна.
Однажды распечатала свои творения. Забыла только имя поставить от волнения. Понесла в прославленный журнал, воодушевленная мужем, налитая тщеславием, как грелка теплой водой. Озиралась по коридорам – все-таки природная робость пробирала. Особенно когда услышала из-за одной двери неприятный циничный баритон: «О нет, дорогая, я женской прозой просто задушен. Пощади мерзавца…» И хохоток крепкий.
Анна мгновенно вспомнила свою родную редакцию на Обводном. Самый цимес – насмешка над нелепыми внештатниками. Так же и здесь, наверное, издеваются всласть над графоманами. Имеют право, мерзавцы, получив такую синекуру. В общем, скисла. А тут еще злополучная дверь распахнулась, и вышел, насвистывая, упитанный баритон собственной персоной. Анна попыталась принять отрешенно-независимый вид, а в голове уже созрел смехотворный, просто-таки идиотский план.