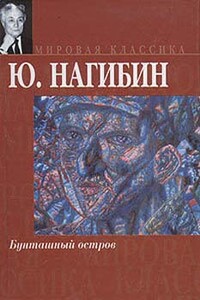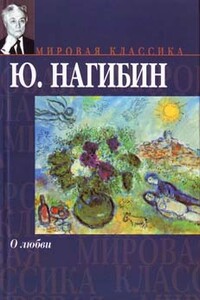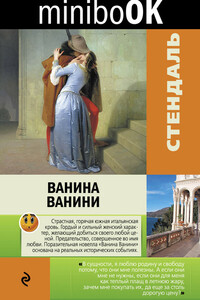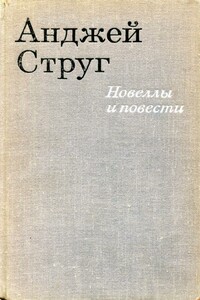Пармская обитель | страница 114
Итак, Фабрицио — раз уж решено все говорить без утайки — проводил свою мать до порта Лавено, находящегося на левом берегу Лаго-Маджоре — на австрийском берегу, и она высадилась там в восьмом часу вечера. (Озеро считается нейтральной зоной, и у тех, кто не выходит на берег, не спрашивают паспорта.) Но лишь только совсем стемнело, он тоже высадился на австрийский берег, в молодом лесу, подступавшем к самому озеру. Он нанял седиолу — нечто вроде деревенского кабриолета, легкого и быстрого на ходу, — благодаря чему мог следовать за каретой матери на расстоянии пятисот шагов; одет он был в ливрею дома дель Донго, и никому из многочисленных полицейских или таможенных чиновников не пришло бы в голову потребовать у него паспорт. Не доезжая четверти лье до Комо, где маркиза с дочерью должны были заночевать, он свернул влево, на проселок, который огибает городок Вико и выводит затем на узкую дорогу, недавно проложенную вдоль озера по самому краю берега.
Была уже полночь, и Фабрицио мог рассчитывать, что ему не встретится ни один жандарм. Дорога то и дело пересекала небольшие рощицы; листва деревьев черными контурами вырисовывалась в звездном небе, затуманенном легкой дымкой. На воде и в небе все полно было глубокого спокойствия. Душа Фабрицио не могла противиться величавой красоте природы; он остановился, затем присел на скале, выступавшей в озеро, подобно небольшому мысу. Тишину нарушал только легкий равномерный плеск мелких волн, замиравших у берега. У Фабрицио была душа истого итальянца, — прошу в этом прощенья за него; он страдал недостатком, который сделает его менее интересным для читателя: тщеславие овладевало им лишь порывами, а величавая красота пейзажа, вызывая в нем умиление, притупляла острые шипы житейских горестей. Сидя на уединенной скале, где ему не надо было держаться настороже и помнить об агентах полиции, под покровом ночного мрака и глубокой тишины, он почувствовал, как сладостные слезы увлажнили его глаза, и нежданно пережил одно из счастливейших мгновений своей жизни, каких уже давно не знал.
Он решил никогда не говорить герцогине лживых слов и, так как в эту минуту любил ее до обожания, поклялся себе никогда не говорить ей, что любит ее, не произносить перед нею слово «любовь», потому что страсть, которую так называют, чужда его сердцу. В порыве великодушных и добродетельных чувств, переполнявших его в эту минуту блаженством, он принял решение при первом же удобном случае открыть ей всю правду: сердце его не знает любви. И как только он принял столь мужественное решение, у него стало необыкновенно легко на душе. «Может быть, она заговорит о Мариетте? Ну что ж, я больше никогда не увижусь с крошкой Мариеттой», — весело успокоил он себя.