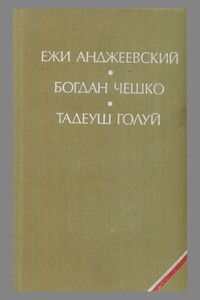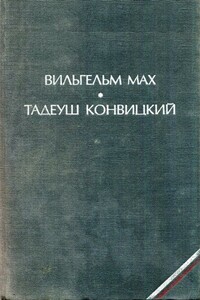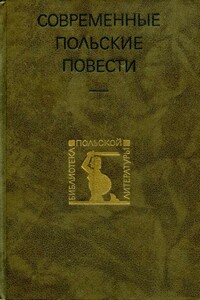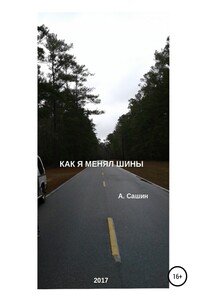А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк | страница 38
С ветвей, что под нашей тяжестью глубоко вошли в подгнившую соломенную кровлю, сыпались яблоки. Падая и катясь по соломе, они всполошили, будто ласки или куницы, гнездившихся под стрехой воробьев и летучих мышей. Вся эта мелкота металась вокруг нас: воробьев слепила темнота, а летучих мышей — августовская заря над садом, что светилась, как наполовину вложенная в ножны сабля.
Когда мы спустились на соломенную крышу, а ветви отскочили от соломы на локоть и яблоки перестали сыпаться с них, птицы вернулись в гнезда, и весь дом снова погрузился в сон. Одни яблони над крышей, с которых мы рвали за пазуху яблоки, по-прежнему от испуга не могли задремать. А весь остальной сад спал крепко и даже похрапывал.
Корзину мы оставили под деревом и, как я сказал, клали яблоки за пазуху. Я еще как-то терпел, ведь с малых лет лазил по чужим садам и моя разгоряченная кожа приучена была к таким — не то оловянным, не то медным — шарам. А девушка, в платье, подпоясанном яблоневым прутиком, кладя яблоки за пазуху, шипела, словно целое стадо гусей напало на нее и принялось щипать.
Набив полные пазухи, мы улеглись рядом на соломенной крыше чуточку отдохнуть. Мы попытались целоваться, но горбы из яблок мешали нам. Мы просто лежали и глядели на августовское небо — оно светлело от бесчисленных огоньков. И пожалуй, на соломенной крыше, что пахла яблоками и птичьими перьями, под ветвями, сквозь которые просвечивало небо, нам было лучше, чем в пруду, хотя мы не целовались и не старались сломить друг в друге затаившегося в каждом из нас зверя, чтобы прийти друг к другу нагими. Хоть мы и помнили всем телом тот пруд, полный наготы, но не чувствовали себя обиженными. Нет, мы то и дело потягивались от наслаждения, так, что хрустели яблоки за пазухой и сыпалась из-под каблуков истлевшая солома.
Мы лежали на крыше, крепко упираясь пятками в пучки соломы, заложив руки за голову, и время от времени приподнимались, чтобы прямо зубами достать до яблока и откусить кусочек. И в солому сочились из нас свет и тень целого дня, и усталость целого дня, и еще усталость от борьбы на тропинке, и та усталость, что до сих пор пахла гашеной известью, каленым железом, солью и разгоряченным зверем, чудесная усталость в воде.
Кровля, сонно почесываясь, очистила нас, и мы пытались вместе с ней погрузиться в дремоту, в глубокий, до последнего волоска, сон. Но, как бывает перед сном, мы, видно, прозевали тот миг, когда соломенная крыша утонула в дремоте. Вот мы и принялись рассказывать друг другу разное про свое детство — вроде бы тоже про сон. Тогда-то солтысова дочка вынула руки из-под головы, приподнялась на локтях, наклонилась надо мной и спросила: