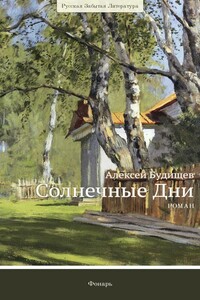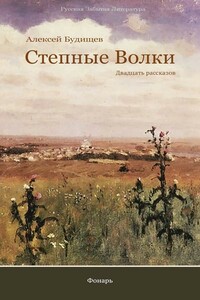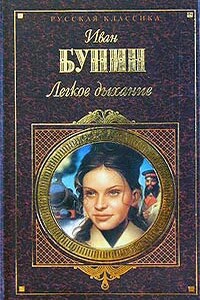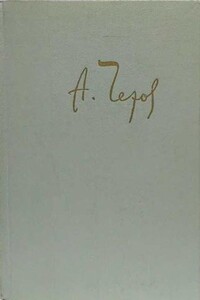Лучший друг | страница 67
— Твой патагонец говорит, — продолжал, между тем, он, — первое, чувство сильнее нас. Второе, чувство пробуждается в нас помимо нашего участия, почему мы за него не ответчики. Третье, семена этих чувств заброшены в наши сердца черт знает кем и, может быть, даже вот именно самим чертом. И четвертое, разум отнюдь не оружие против чувства, а лишь его верный слуга. С этим я соглашаюсь. Все это так!
Кондарев встал, движением ноги отодвинул стул, на котором сидел, и, опираясь руками о стол, продолжал с внезапно вспыхнувшим лицом:
— Патагонец, по-моему, неправ вот в чем. Патагонец утверждает, что у нас так-таки нет никакого оружия для борьбы с чувством и что все мы жалкие рабы нелепой случайности. Да это так, пока мы не взяли в руки надежного и верного оружия. В таком случае мы жалкие рабы, дрянь и ничтожество. И только! Но если мы завладели этим оружием, — о, тогда мы господа своих поступков, тогда мы сила и могущество. А такое надежное оружие у нас есть. Оружие это — чувство же! Чувство же, пойми ты это раз навсегда, Сергей Николаевич, — с силою воскликнул Кондарев звенящим голосом и оглядел Опалихина загоревшимися глазами, — чувство же, а не разум! Пойми ты это!
— С чувством можно бороться чувством же, — взволнованно продолжал он после минутной паузы среди притихшего балкона, — и только чувством! И семена этого воинствующего и протестующего чувства, того самого чувства, которое бессознательно гнало патагонца есть вяленое под седлом мясо, — семена эти живы в каждом человеческом сердце.
— Да, — говорил он громко с алыми пятнами на щеках, весь разгоряченный и возбужденный, — каждое сердце человеческое несет в себе ростки этого протестующего чувства, и для того, чтобы они возмужали и окрепли, нам надо почаще вглядываться в идеалы чистоты и кротости, в те идеалы, которые посеяли их. Ведь только из них, из этих ростков, мы можем выковать себе тот архангелов меч, который разрубит, наконец, надвое пресмыкающуюся в нас гадину.
Кондарев на минуту замолчал, поводя сверкающими глазами, слегка запрокинув голову и оглядывая окружающих.
На балконе было тихо. Тягучие волны прохлады проходили порой через балкон, играя концами скатерти и подвитыми волосами женщины, Опалихин, склонившись к Ложбининой и кивая на Кондарева, шептал:
— Он пьян!
— Вы скажете мне, — говорил в возбуждении Кондарев, — вы скажете мне: да неужто же это так в самом деле просто? Поглядел человек на идеалы чистоты, возлюбил их и сразу же чистым стал? О, нет, — вскрикнул Кондарев, — кто говорит, что это легко! Это трудно, это наверно очень трудно, да ведь и железную дорогу сочинить не легко было, да ведь сочинили же вы ее! А сочинили вы ее, потому что вы работали в этом направлении целыми веками; вы — работали, и вам далось, вы стучали — и вам открылось. А стучались ли вы в том направлении, в направлении чистоты и кротости? Стучались ли вы? А ведь и там сказано: стучитесь и открою вам. Но в том-то и дело, что вы не ударили в том направлении и пальцем о палец, так каких же плодов вы хотите? А почему бы в самом деле нам не попробовать поработать вот именно в том направлении, — говорил Кондарев, точно подхваченный каким-то потоком. — Отчего бы нам не поработать над собою и над воспитанием наших детей вот именно в тех идеалах? Ведь воспитывали же спартанцы свое юношество в духе своих идеалов, и поглядите, какие блестящие, с точки зрения тех идеалов, результаты давало это воспитание. Да, — работайте над собою, пересоздайте ваши школы, учите детей состраданию и живой деятельной любви к ближнему точно так же, как вы учите их аналитической геометрии, преподайте им методы бороться с инстинктами зверя и почерпать наслаждения в победе над ним, укрепляйте их волю, работайте сами, наконец, бок-о-бок с ними, и вы увидите, что за великолепное существо возродится из нашего гнилого тела после многих веков такой работы.