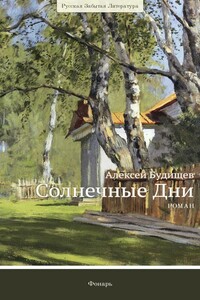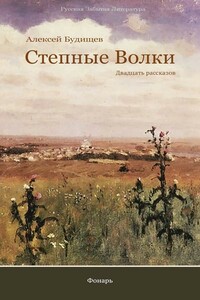Лучший друг | страница 31
Этим зонтом он пугал пристяжных, с шумом раскрывая его перед их глазами и бывал доволен, когда они несли его так, что только снег злобно визжал под санями. Такое катанье он называл «потехой души».
И теперь эта «потеха души» несколько успокоила Кондарева. В воротах усадьбы он выпрыгнул из экипажа и отправился в поле. Там на зеленой меже он вскрыл конверт. Он не ошибся. Письмо начиналось так: «Милая дочь Матрена! Вчера я купил лошадь». А в подписи значилось: «твой отец Евстигней Федотов». Вместе с конвертом он бережно спрятал это письмо в бумажник и справился с своей записной книжкою, где он нашел заметку следующего содержания: «А если твой совет — лгать: Вчера я купил лошадь».
Он с злобной усмешкою подумал: «Так вы мне лгать советуете, Сергей Николаевич? Будем стараться!»
Он сунул руки в карманы и беспокойно заходил по меже.
В поле было тихо; сильно нагретый воздух резко сверкал, и светлая зыбь с мягким шелестом ползала по волнующейся поверхности.
Кондарев с искаженным лицом внезапно вскрикнул:
— Так ты драться хочешь? Драться? Так что же — будем драться! — Он хрустнул пальцами и тем же осиплым голосом добавил:
— Но знай, что я буду бить тебя твоею же палкою. Помни же! Твоею же поганою палкою!
Он круто повернулся и направился к себе в усадьбу.
Татьяна Михайловна испуганно вздрогнула, когда в детскую, где она сидела за работой, неожиданно вошел муж.
— Где Гудзонов залив? — спросил он ее.
Она с недоумением поглядела на него.
— Что такое ты говоришь?
— Куда ты подевала Гудзонов залив? — повторил Кондарев с напускной строгостью.
Она вместо ответа внезапно припала к столу и тихо расплакалась. Кондарев подошел к ней и, нежно трогая ее плечо, зашептал:
— Ну, что? О чем ты? Что с тобой?
Она сквозь слезы шептала:
— Ты меня испугал. Зачем ты меня так испугал? Я думала, что-нибудь случилось.
— Ах, глупая, глупая, — качал головой муж и глядел на слезы, падавшие на тонкие пальцы ее рук.
Столбунцов фехтовал с Людмилочкой на липовых прутьях, а Ложбинина сидела с Опалихиным на балконе, глядела на фехтующую парочку и слушала Опалихина.
Кругом было светло, но под деревьями трава казалась уже темно-синей. На зелени сада лежали розовые блики, малиновое небо глядело в просветы и сквозь листву деревьев, со стороны реки, тягучими и плавными ударами приносилась прохлада. Опалихин, весело и холодно сияя глазами, говорил:
— Ревность — чувство неразумное, и потому обречено на смерть.
— А любовь? — спросила Людмилочка, повертывая хорошенькую рыженькую головку, в волосах которой горели теперь совершенно золотые нити.