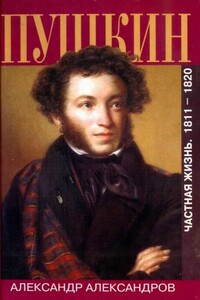Известный аноним | страница 9
Жуковский впервые говорит с Пушкиным довольно грубо, называя его глупцом, которому место в желтом доме, которого надо высечь, чтобы привести кровь в движение и выгнать желчь.
«Найди, как выразить что — нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к нашему государю!», — искренне советует он.
Пушкин униженно берет отставку обратно, предпочитая, по его словам, выглядеть лучше легкомысленным, чем неблагодарным.
«Я его прощаю, но позовите его, — говорит царь Бенкендорфу, когда тот делает очередной доклад, — чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем это может для него кончиться. То, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»[24].
3 августа 1834 года Пушкин пишет жене в Полотняный Завод:
«На днях встретил я мадам Жорж. Она остановилась со мной на улице и спрашивала о твоем здоровье, я сказал, что еду к тебе, чтобы сделать тебе ребенка. Она стала приседать, повторяя: «Ах, мосье, вы доставите мне большое удовольствие!»[25].
Постоянная беременность жены (или брюхатость, как любил говорить сам Пушкин) была средством отдалить ее от балов и, таким образом, от соблазнов. Он заехал на две недели, сделал ребенка и проскочил в Болдино, где ему всегда хорошо писалось.
20 сентября 1834 г. в 10 часов 53 минуты в Болдине Пушкин заканчивает свою последнюю сказку, «Сказку о золотом петушке». Нам совершенно не важно, какая из новелл, «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга или «История о золотом петухе» забытого немецкого литератора Ф. М. Клингера, жившего в России, легла в ее основу. Пушкинисты предпочитают первую версию, поскольку она принадлежит Анне Ахматовой. Я — вторую, которую выдвинул академик М. П. Алексеев, полиглот, феноменальный знаток мировой культуры, не исключая, что и новелла Ирвинга наслоилась на сказку Клингера. Фридриха Максимилиана Клингера, или, Федора Ивановича, как его стали звать в России, бывшего библиотекаря Павла I, знали лично многие старшие друзья Пушкина. Письмо Клингера Гёте передал в 1824 году посетивший великого немецкого поэта В. К. Кюхельбекер, и есть основания полагать, что Пушкин чуть ли не с лицейских времен был знаком с «Историей о золотом петухе», тем более что прямых аналогий пушкинскому золотому петушку не нашли ни русском фольклоре, ни в каком — либо другом. Нам же главное знать, что в той сказке речь идет о принце всех рогоносцев, который скрывался под личиной петуха. «Петух был самой красивой в мире птицей, — говорится у Клингера, — перья его были золотые, гребешок красный, лапки маленькие, пепельно — серебряные. Он не принимал никакой пищи, погруженный в свои грустные философские мысли и любовные мечтания, но все же он пел в привычное время как обычный петух. Лишь один недостаток уродовал миловидную птичку, к огорчению всех, кто ее видел. Противное перо мышиного цвета спускалось с гребешка на самый клюв, подобно бараньему рогу; оно было огромного размера; с трудом можно было разглядеть петуха. Оно покрывало всю птицу и сжимало всю его голову. Было заметно, что в его глазах отражалась вся скорбь мрачной меланхолии».