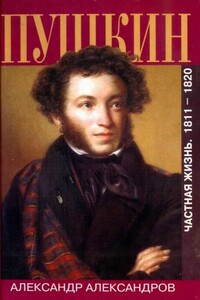Известный аноним | страница 32
«Милостивый государь,
граф Карл Федорович!
Письмо, коего Ваше сиятельство изволили меня удостоить, останется для меня драгоценным памятником Вашего благорасположения, а внимание коим почтили первый мой исторический опят вполне вознаграждает меня за равнодушие публики и критиков.
Не менее того порадовало меня мнение Вашего сиятельства о Михельсоне, слишком у нас забытом. Его заслуги были затемнены клеветою; нельзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников. Жалею, что не удалось мне поместить в моей книге несколько строк пера Вашего для полного оправдания заслуженного воина. Как не сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета; но одно слово, сказанное таким человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное писание».[73].
Клевета, предубеждение невежества, зависть и неспособность сверстников и начальства, непонимание друзей, и откровенное одиночество на миру, всё это мучило Пушкина в последние месяцы его жизни. Что он мог противопоставить всему этому кошмару, в котором пребывал; только истину, которая (он верил) сильнее царя. Всегда читая эти строки, которые часто приводятся в исследованиях, я ощущал, что в них скрыто что — то очень важное для Пушкина. Петраков правильно заметил, что эти слова касались взаимоотношений царя и поэта, но, как оказалось, они впрямую касались еще и женщины, и Бога. Как выяснилось, пушкинские комментаторы — атеисты в научном комментируемом издании «Пушкин. Письма последних лет» 1969 года, опростоволосились и расписались в своем бессилии: «источника цитаты обнаружить не удалось». В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», изданной уже в 1999 г., цитируется это письмо с редакторской пометкой в скобках «мнимая цитата».
На самом деле цитата не мнимая, источник ее мною найден. Их даже два. И мы не знаем, каким из них пользовался Пушкин. Сам он ссылается на Священное писание, ибо имя государственного преступника В. К. Кюхельбекера, от которого и пришла к Пушкину эта мысль, было под запретом.
Поэт В. К. Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина, Кюхельбекер, десять лет проведший в одиночных камерах крепостей Шлиссельбурга, Динабурга, Свеаборга, с 1836 года находился в Сибири на поселении. По возможности он переписывался с Пушкиным, который иногда получал письма с оказией, в чем ему даже приходилось оправдываться перед III-им отделением и лично перед А. Х. Бенкендорфом. Поэму «Зоровавель», скорее всего в составе «Русского Декамерона 1831 года», Пушкин получил в 1832 году, о чем свидетельствует запись в дневнике самого Кюхельбекера: «21 июля. «Зоровавель» мой в руках Пушкина».