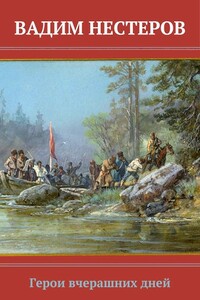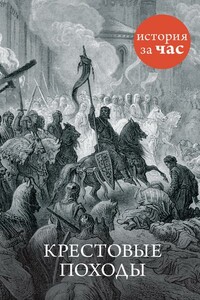Жизнь примечательных людей. Книга вторая | страница 77
И только взрослым я понял — нездешность.
Слова были не отсюда. Не из 70-х. Они были из другого — невегетарианского времени. В них было что-то звериное, какая-то первобытная мощь и первобытная пластика, какое-то дикарское бахвальство человека, пустившего кровь врагу. Эти слова, как фотопластинка, на которую сфотографировали 20-е — и не переснять.
И вовсе не случайно Егор Летов, самый чуткий из всех наших рокеров, блажил их под гитару: "Луна — словно репа, а звезды — фасоль…".
У Гражданской войны в России была одна уникальная особенность. Вскоре после Революции что-то пропитало воздух, воду и почву на территории бывшей Российской империи. Не знаю, что — всё, что угодно. Флогистон какой-то. Может быть, прорвавшиеся демоны какую-то демоническую энергию с собой принесли — не знаю.
Но что-то точно было.
Ничем другим невозможно объяснить невиданный взрыв творческой активности, эпохальные прорывы во всех видах искусств, всех этих Платонова и Олешу, Прокофьева и Шостаковича, Довженко и Эйзенштейна, Грекова, Филонова и Родченко, Багрицкого, Маяковского, Смелякова и легионы других.
Причем работало только в стране, это эфемерное нечто нельзя было унести с собой на подошвах сапог. Ничего и близко похожего не случилось в эмиграции, и только самые прозорливые и талантливые из ушедших давились тоской длинными вечерами оттого, что здесь — тлен, а жизнь — там.
И спивающийся в Харбине Арсений Несмелов — русский фашист, японский прислужник и поэт божьей милостью — рвал пером бумагу.
Практически одновременно с Прокофьевым еще один некрасивый русский поэт, знающий вкус крови не понаслышке, на последних крохах оставшегося внутри Этого писал другое стихотворение о своем товарище. Называлось оно "Вторая встреча":