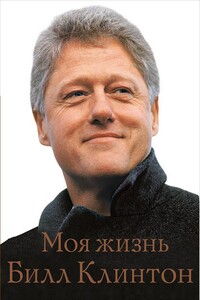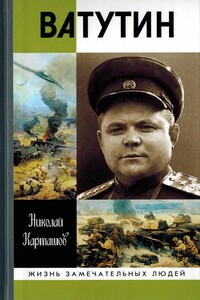Я здесь | страница 32
В один теплый дождливый день я, накинув полковничью плащ-палатку дяди Лени прямо на футболку и трусы, отправился разведать дорогу в Переделкино и пошел себе мимо баковских дач, полем и сквозь лесок, по мосткам через какую-то запруженную заводь, опять мимо уже переделкинских дач, и вдруг оказался у ворот к Дому творчества.
Я пожалел, что оделся так по-простому, по-дачно-спортивному, но решил узнать, там ли Владимир Луговской, к которому мы с Рейном планировали на днях съездить. Подойдя к дверям, я как раз и столкнулся с ним. Он возвращался с высокой дамой, обликом напоминавшей красавиц, когда-то позировавших Дейнеке и Самохвалову.
Пришлось представиться как есть. Дама нас оставила вдвоем, и мастер, которым я так восхищался, разглядывал меня с недоумением. Объясняя свой, конечно же, неприличный для визита вид, я сам разглядывал прославленного поэта: высокий рост, тот же узнаваемый из тысяч мужественно-исступленный профиль, черные густые брови, волосы, теперь уже совсем седые, откинутые назад,- знакомый по портретам облик. Но и какая-то едва уловимая дряблая дряхлость проглядывала в подбородке, в безволосой лодыжке ноги... А голос - роскошный, даже несколько показной.
Я рассказал ему, как до морозных мурашек по коже любил его поэзию - не только знаменитую "Балладу о ветре" или "Мужество и нетерпенье вечно мучили меня" - образы, кстати, объяснившие мне собственные отношения с подругами, но и любовные, нежные и даже трогательные стихи...
- Какие же именно?
- Ну, например: "Стоит голубая погода, такая погода стоит, что хочется плакать об августе и слышать шаги твои..." Или: "Девочке медведя подарили..."
- А-а...
- И все-таки наиболее сильными мне кажутся поэмы из сборника "Жизнь", образующие новую линию. Так сказать, линию "Жизни"...
Мастер был этим замечанием очень доволен и сказал, что он как раз заканчивает книгу новых поэм, продолжающих эту "линию жизни", если хотите. Название сборника, впрочем,- "Середина века". А сейчас он просит меня прочитать что-нибудь свое. И я стал читать. Когда я кончил, он сказал:
- Ну что ж. "На срезе тяжелого холма" - это хорошо. "Жизнь есть способ передвижения белковых тел" - это выражено смело. Может быть, даже нагло. А "лучики ромашек" - это, извините,- "лучек и рюмашек". Но вы пришлите мне тексты, эти и новые, и я, возможно, вас поддержу.
Странный пустяк: я не взял его почтового адреса. Некуда было записать, да и казалось, что всегда успею. Но, созвонившись с Рейном, я назавтра привел его к Луговскому. Глубоким низким голосом мастер читал нам поэму из "Середины жизни" (так у меня сейчас объединились оба названия) о бомбардировке Лондона. Образы были видимыми и резкими, но напоминали они не реальность и не поэзию, а кино, снятое оператором Урусевским. Впоследствии Рейн, переставив юпитеры и притушив освещение, усвоил эту манеру для своих ностальгических баллад о былом.