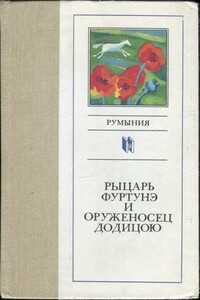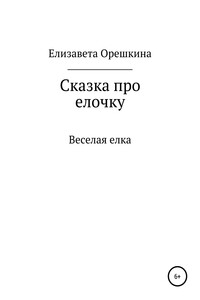Неразделимые | страница 77
Перешагивая через порог, старик, не поднимая головы, сказал: «Добрый вечер и вам всем!» Мальчик тоже проговорил: «Добрый вечер!» — и его слова донеслись словно повторение отцовских. Но голос его меня поразил: он был, не в пример его лицу, молодой, детский. Поздоровавшись, они повернулись почти одновременно к печи, весело потрескивавшей в глубине комнаты. Приблизившись к печи и обойдя ее, они тут же разместились на полу возле бревенчатой стены и сразу же склонились друг к другу: видимо, они разговаривали, о чем-то договаривались, хотя слов было не слышно и даже движения губ не видно.
Это, как говорилось когда-то о другом тяжком черногорском годе, был «год, полный мучений и бед»[46], и мать оказалась в затруднении: чем их покормить? Скоромная еда, которой и осенью в доме водилось мало, потому что скот после войны и реквизиций почти совсем перевелся, была на исходе; кукурузы осталось всего на три, три с половиной месяца, а надо было ее растянуть до середины августа, когда поспевал ячмень. Экономили, стало быть, даже на кукурузном хлебе, и после ужина его оставалось ровно столько, сколько было отложено на завтрак. «Вот беда, чем их покормить?» — посетовала вполголоса мать. Все-таки она разломила пополам оставшийся хлеб, наскребла (это слово она часто употребляла) что-то и на заправку и подала старику и мальчику.
— Ну зачем ты хлопотала? — сказал старик. — Мы плохие едоки.
Пристально всматриваясь в измученного мальчика, мать уговаривала: поешьте, что бог послал, горло промочите, и придвинула к ним деревянный ковш с отваром из сухих фруктов, который был только что сварен для моей бабушки по матери, ожидаемой завтра к нам в гости. Подошел отец и тоже их приободрил и, будто это могло исправить им настроение, снова наложил в печь буковых поленьев. Наконец старик и мальчик начали есть. Начал, показывая пример, старик, а потом вполголоса больше понуждал есть мальчика, чем ел сам. Но оба ели вяло, у мальчика словно бы даже на это не было сил. Иначе обстояло дело с отваром: вареные сухие груши и сливы они съели быстро, а мальчик жадно выпил жидкость. Потом мать из чулана для кадушек и всякой рухляди принесла две старые кошмы — одну расстелить на полу, а другой укрыться. Эти кошмы она предназначала как раз для таких случаев, прежде всего для принимаемых на ночлег нищих.
В нашей бревенчатой избе, как и во всякой иной в селе, помимо двух чуланов, была только одна комната, правда, довольно просторная, и прихожая, называемая «домом», с земляным полом и очагом, но без потолка. В комнате жили, ели, хворали, умирали (в ней лежали мертвые мой дед, бабка, два младших брата), дождливой осенью лущили кукурузу, плели циновки из рогоза, ткали на ткацких станках, зимой на день-два приводили и возле печи устраивали овец с ягнятами и отелившуюся корову. Мы все спали в этой комнате, а вместе с нами, случалось, спали и гости. Так мы спали и этой ночью: отец, мать и мы, дети, на соломенных матрацах, расстеленных под окнами, старик и мальчик чуть поодаль, возле печи. Прежде чем задуть коптилку, отец сказал старику, что, если нужно будет, пусть сколько надо подбрасывает в печь — «чего-чего, а дров у нас хватает». И старик топил печь и всю ночь кашлял и сплевывал, а мальчик бредил во сне — от жары спалось плохо, и даже я, а не только мать, прислушивался и к одному и к другому. На рассвете мы, ребятишки, поднялись и затеяли возню возле печи, за которой на бревенчатой стене зимой по ночам сушилась наша обутка. Старик и мальчик тоже встали и принялись собираться. Как только рассвело, они ушли, точно так же, как вошли вчера вечером. Тяжело ступая, старик тихо попрощался и поблагодарил («как людей»). И это вместе с немногими вчерашними словами было все, что он произнес: он не сказал, кто он, откуда и как оказался в наших краях, ни о чем не расспрашивал нас, ничего не хотел и ни о чем не просил и, уходя, не сказал, куда они так рано держат путь. Из-за его молчания ни отец, ни мать ни о чем их не спрашивали. А отец охотно бы поговорил, он любил разговаривать с захожими людьми, расспрашивать, кто такие и чьи будут, чем примечателен их край, какие фрукты там растут, что сеют, какой скот держат, о чем народ толкует и что слышно в мире. Но не станешь же приставать с расспросами к человеку, который так выглядит и словно окаменевший молчит? А мы потом узнали, что так же он молчал и в домах, где ночевал до нас и после нас. Ни в одном из них ни о нем, ни о мальчике решительно ничего не знали, не знали даже, как их зовут.