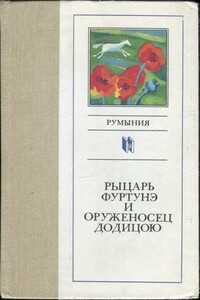Неразделимые | страница 74
В таких обстоятельствах видишь и запоминаешь необыкновенно зорко, и по тому, что́ увидела и пережила мать, ей, хотя она сделала всего лишь с десяток шагов, казалось, что она шла за волокушей бог знает как долго. В эти минуты для нее ничего, кроме волокуши, не существовало. Но вдруг где-то совсем близко послышался издевательский (конечно, издевательский!) голос:
— Ты что на них смотришь, очень жалеешь их?
Она вздрогнула: с другой стороны дороги, повернувшись в ее сторону, на нее смотрел офицер на коне — ничего отчетливо она не запомнила, ни его самого, ни коня, кроме этого взгляда! Офицер по обочине пробивался к голове колонны, а волокушу тем временем догнал отряд жандармов — четверо из них помимо винтовок несли две кирки, лопату и лом. «Что они делали этим ломом, чтоб себе на беду делали?!» — подумала мать. И как раз в это мгновенье тот же и такой же голос:
— Любуйся, любуйся, — мы их дымом, как барсуков, задушили! Решились посягнуть на короля и государство, перед чужеземцами выслужиться, пусть теперь им чужеземцы помогут! Любуйся, все вы должны на них полюбоваться! Кто против короля, тот против и государства, и мы их всех — вот так…
Офицер замолк, но от своих угроз, от слов «король», «государство», «преступники», «вот так» совсем раскипятился. Выгнулся, заерзал на седле и принялся кричать: а чья это лошадь, что навьючено на лошади, а куда «эта» отправилась, не еду ли повезла врагам народа, уж не кормила ли она их как сообщница?!
— Не ори! — оборвала его мать и вдруг поняла, что это как раз то, что ему надо было сказать. — Не ори, мы не глухие! — добавила она.
Офицер взбеленился, повернулся к жандармам и повелительным жестом руки в серой, плотно облегающей перчатке (мать потом только это еще и вспомнила) приказал одному из них вывести нашу лошадь на дорогу и пустить вслед за колонной.
— А ты, — повернулся он к матери, — налево кру-гом марш и лошадь — за узду! — И снова жандарму: — И ее и лошадь за колонной. Гони!
Вот так, с офицером во главе и солдаты, и убитые, и жандармы, и мать с лошадью и грузом проследовали через Ушче и свернули во двор дома, где размещался жандармский пост. Подождав, пока вся колонна не собралась во дворе, офицер слез с седла, передал коня одному из солдат и проворно вбежал в дом. Вскоре оттуда донеслось, как он кричит: «Алло! Алло!» и потом что-то невнятное. На дворе он больше не появлялся, но люди к нему входили и от него выходили. Вышел унтер-офицер, и жандармы подтащили убитых к задней стене двора и разложили их на снегу. Потом вслед за унтер-офицером в дом пошел один из солдат, когда он возвратился, все остальные солдаты вошли в дом. Снова вышел унтер-офицер, и тогда один из жандармов встал на караул у ворот, а другой возле убитых, а остальные, как и солдаты, пошли в дом. Мать, держа лошадь на поводу, осталась одна посредине двора между домом с солдатами и убитыми. Долго она так стояла, мурашки поползли по спине, и она испугалась, как бы здесь, перед этим проклятым домом, в котором вначале вершил суд австрийский цугфюрер, а вот теперь вершит суд жандармский унтер-офицер, как бы здесь не увидели, как она дрожит и стучит зубами. Но унтер-офицер, однако, вышел и в третий раз в сопровождении двух жандармов. Жандармы быстро сняли наши мешки, развязали их и старательно отвернули края, а унтер-офицер нагнулся и принялся рыться и ворошить кукурузу в одном и в другом мешке, каждое зернышко хотел ощупать! Закончив с этим делом, он стал расспрашивать мать, куда она направилась с мешками кукурузы и почему именно сегодня? Мать ответила: в ущелье у нас своя мельница, пошла смолоть зерно, а сегодня пошла, потому что как раз сегодня кончилась мука, а в доме малые дети. Угрюмый, непроницаемый унтер-офицер ушел в дом, а чуть позже одного из жандармов послали в село. Вернулся он со старостой Ушче, провел его мимо часового в воротах и ввел к офицеру. Староста поздоровался с матерью, а на убитых за все время, пока пересекал просторный двор, ни разу даже не взглянул. От капитана он вышел по-прежнему с жандармом. На мертвых и сейчас не оглянулся, а, переступая порог жандармского поста, говорил, словно вслух разговаривал сам с собою и себя успокаивал: