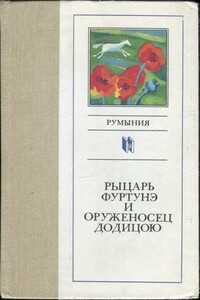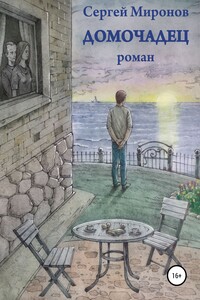Неразделимые | страница 65
Нам было грустно, ему тоже.
Более того, Фриц был подавлен.
Итак, я должен отметить следующее: в 1944 году я был уже настолько онемечен — и в том заслуга Фрица, — что думал по-немецки, а потом уже произносил словенские слова.
За один год благодаря хорошему методу обучения я стал — хотел я этого или нет — словенцем, говорящим по-немецки.
Два дня спустя мы проводили Фрица с деревянным чемоданчиком в руках до поезда; было холодно, повсюду лежал снег.
Чувствую, что Фриц ехал в Россию, чтобы погибнуть. Готов дать руку на отсечение, что он нарочно вылез под пулю русского снайпера; Фриц был добрым, слишком добрым человеком, чтобы убивать, хотя нас он так или иначе успешно онемечил.
И все-таки его родным языком был словенский, над которым, как мох, выросла привычка к немецкой речи. В то же время я убежден, что Хуберт не погиб, — возможно, и сейчас он где-то преспокойно живет и нараспев повторяет свое «noo-jaaa»[36].
Еще немного о продовольственных карточках.
Необходимо добавить еще об одном очень существенном в те годы явлении: мы ходили по деревням и попрошайничали, заходя во все дома подряд.
Гонимые голодом, мы расползались по округе до Брезья и Горьюши с пустой бутылкой в кошелке. Подходя к дверям, мы просили молока, моркови, картошки. Крестьяне охотно выносили только морковь и картошку, а молока не давали, предпочитая подливать его в пойло, которым откармливали свиней, чтобы те скорее жирели.
Помню, что за кусочек свиного сала требовали у мамы карточки на промтовары или табак, а иногда даже золото, белье, одежду.
Случалось, мама при этом сердилась и спрашивала, знают ли они, откуда мы пришли. Они знали, что из Яворника и что мы там голодаем, но прекрасно понимали и то, что мы полностью у них в руках. И они могут нас прищелкнуть, как блох.
Сколько раз из их кухонь доносились запахи жаркого, колбасы, молока, кукурузных клецок!
Я глотал слюни, или они текли у меня, как у собаки.
А крестьяне спрашивали у нас золото.
При таких встречах ненависть к немцам уступала по своей силе гневу на моих соотечественников, так горько нам с мамой бывало от бесчисленных жестоких унижений.
Когда я отправлялся на промысел один, я ходил от одного крестьянского дома к другому и лгал, что отец мой сидит в тюрьме в Бегунье, надеясь растрогать какую-нибудь бабушку, чтобы поскорее вернуться домой с бутылкой молока, а может, и с поросячьим копытцем или чтобы она налила мне чашку молока и дала тарелку кукурузных клецок.