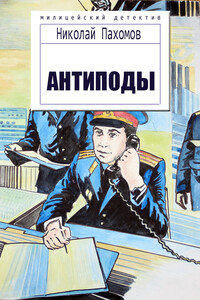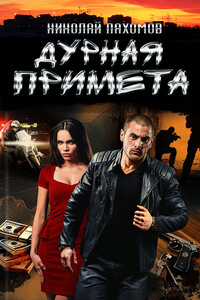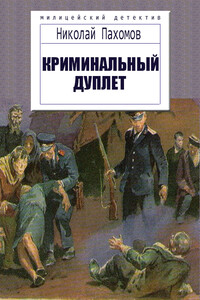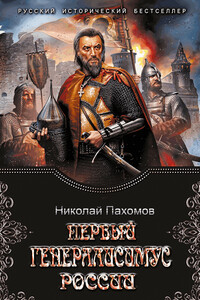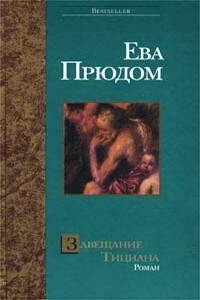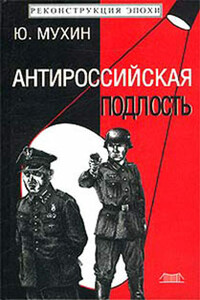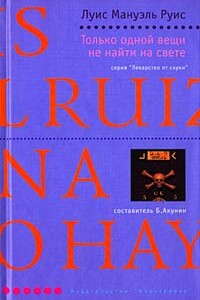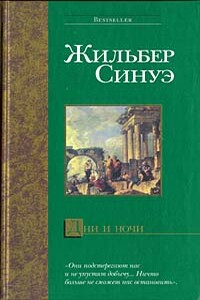Шемячичъ | страница 124
Когда князь черниговский Семен Иванович вызвался «проучить» изменников, он звал с собой и родича — Василия Ивановича. Рыльский князь было рыпнулся, но воевода Клевец посоветовал с этим делом не спешить. «Чужую бороду драть — свою подставлять! — предостерег со знанием дела. — К тому же верх часто одерживает не тот, кто в поле ратоборствует, а тот, кто со стороны на это смотрит. Да и забывать о крымских татарах не след — в любой час могут нагрянуть. Кто удел тогда защитит?..» Василий Иванович прислушался к словам старого воеводы и, сославшись на защиту края от крымчаков, от похода против московского князя воздержался. И не прогадал, как показало время. И перед литовским государем вины не имел, и перед московским обид не увеличил, и дружину в ненужных походах не подрастерял. Впрочем, вспоминать о данном обстоятельстве он не любил. Не своим умом до того дошел — чужим попользовался.
«Да разве только князья Вяземские, Семен Юрьевич да Иван Михайлович, перешли на сторону Москвы?.. — как наждаком, по свежей ране скребнули новые мысли в разболевшейся голове Василия Ивановича Шемячича. — И князья Белевские, Василий да Андрей Васильевичи, и князь Михаил Романович Мезецкий, и князь Андрей Юрьевич Вяземский, и князь Семен Федорович Воротынский. Все — далекие потомки Ольговичей Черниговских… Все от сынов Михаила Святого… Кроме Вяземского. Этот наш, Мономашич, из смоленских князей».
От невеселых дум пухнет и болит голова рыльского князя, которому скоро сорок годков исполнится и у которого сын Иван, родная кровинушка, подрастает. Княжичу Ивану пятнадцать. Он безус, но на коня, не опираясь о стремя, вскакивает и на дворовых девок давно мужским горячим похотливым глазом поглядывает. Сын тоже и радует, и тревожит рыльского князя. Радует, что вырос, что скоро первым помощником будет — вместо наместника отправится в Новгород Северский. Тревожит тягой к церковной и монастырской жизни, любовью к книгам о житиях русских святых. «В деда что ли уродился?» — часто задается вопросом Василий Иванович. Но с ответом не спешит. — Время покажет… Да и дед-то только к концу жизни в монастырь ушел, а по молодости так куролесил, что боже упаси!»
Размышления о князьях Ольговичах, перешедших на сторону Иоанна Васильевича, подняли из-под спуда еще одного из них — князя Петра Ольшанского. Того самого Ольшанского, которого, если верить слухам, соблазнила Аграфена Андреевна, став то ли женой при собственном живом муже, то ли содержанкой. После первой попытки перейти в подданство московского государя Ольшанский был прощен королем Казимиром. Но Казимир в 1492 году отошел к праотцам в ирей. Его старший сын Владислав находился на венгерском и чешском королевском престолах. Поэтому претендовать на польский и литовский не стал. Зато младшие — Ян Альбрехт и Александр — разделили между собой польский и литовский столы. Ян стал величаться королем польским, а Александр, по традиции, — великим князем литовским. И когда Петр Ольшанский и Михаил Олелькович, следуя примеру князей Вяземских, Белевских, Мезецких и Воротынских, вновь попытались перейти на сторону Москвы, то были схвачены и казнены по приказу Александра.