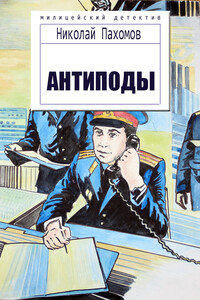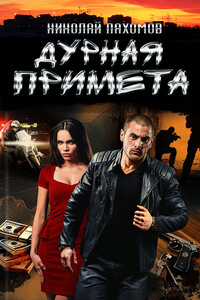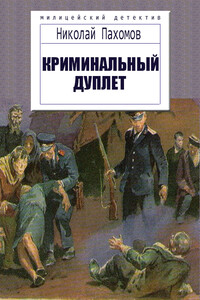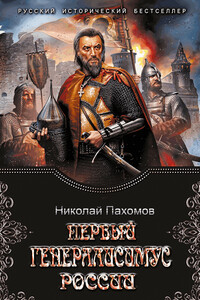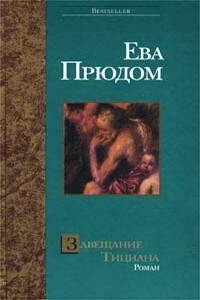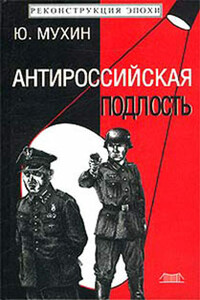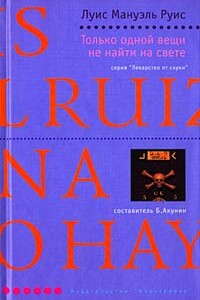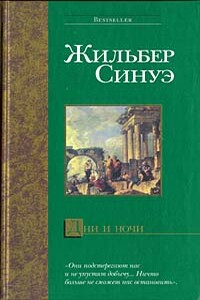Шемячичъ | страница 123
Впрочем, новых домов-теремов княжеских построено несколько. Все они имеют дворы, обнесенные крепким тыном. Но живет князь в самом большом и красивом, расположенном недалеко от торжища. Торжище в Рыльске всегда шумное да многолюдное. Но людского гама в княжеском доме не слышно. Он хоть и близко, да не рядом.
А случись, не дай бог, какая беда, можно и на гору в замок подняться. Подземные ходы не только между княжескими домами на посаде прорыты, но и до самой подошвы горы. Мало того, они и до стен Волынского монастыря прокопаны. Расстояние немалое, но рыльские мастера потрудились на совесть. И попотеть, конечно, им пришлось… Отдушины от подземных ходов на поверхность выведены. Но чтобы в глаза не бросались, под разные постройки прилажены — где под часовенку, где под сруб колодезный с двухскатной крышей, где под хозяйский амбар близких к князю людей.
Одрина, в которой сидел князь, большая, просторная. Внутри из бревен сложена, чтобы теплее да суше было. Два окошка со ставнями — от ночных татей и на случай непогоды. В восточном, святом, углу киот с иконами и лампадка перед ним. Вдоль стен лавки, сундуки под суконными цветными попонами. На одной из лавок, что пошире, — княжеское одро — постель. На постели — горкой перины с лебяжьим пухом, подушки. Поверх перин — попоны-одеяла. На дубовом полу ковры. На стенах — медвежьи шкуры с клыкастыми мордами, оружие всякое: копья, мечи, луки, стрелы в колчанах, сабли и кинжалы в серебряных ножнах, секиры, боевые топорики. Что-то от дедов и прадедов досталось, что-то уже самим князем приобретено. В святом углу, недалеко от постели — дубовый стол. Вокруг него крепкие лавки с резными ножками. Особняком стоит кресло с высокой спинкой, на котором восседает князь. На столе жбан с квасом, птица жареная, закуски разные.
«Многие русские князья бегут, — сверлят невидимым коловоротом княжескую голову тревожные мысли. — И не просто бегут с собственными вотчинами и уделами, но и соседние прихватывают… Взять хотя бы князей Воротынских. Семен Юрьевич с племянником Иваном Михайловичем и сами с уделами к великому князю московскому Иоанну Васильевичу перешли, и еще два города по дороге прихватили — Серпейск и Мещовск, принадлежащие кому-то из их родственников по младшей ветви Ольговичей. «Разбой средь бела дня», — возопил Александр Казимирович и ну искать тех, кто бы мятежных князей возвратил.
Вызвались воевода смоленский Юрий Глебович да князь черниговский Семен Иванович, родной дядя матушки Аграфены… И что же? — переспросил мысленно сам себя Шемячич, нахмурив более прежнего чело. — А то, что московский государь, призвав племянника своего Федора Васильевича Рязанского, князя Василия Ивановича Патрикиева да воеводу Даниила Щеню, так турнул этих «ратоборцев», что они только в Смоленске и опомнились, — скривил рыльский князь в иронической улыбке уголки губ. — Мало того, что московские воеводы города Серпейск и Мещовск присоединили к Московскому государству, заставив жителей присягнуть Иоанну Васильевичу, они еще и Вязьму, и Козельск из-под Литвы вывели. И сколько Александр Казимирович ни пытался их вернуть себе, посылая своих послов в Москву — все бесполезно. У великого московского князя, как у прожженной бабы-пирожницы на торгу, сто отговорок».