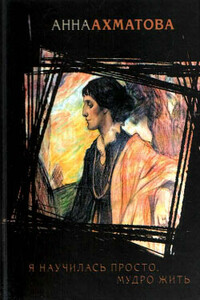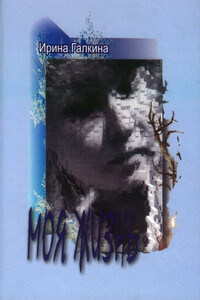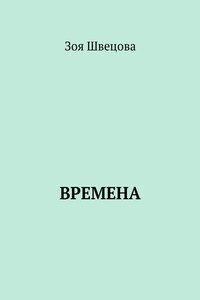Два века о любви | страница 31
Расти при имени твоем.
«И скажут – что он? Только скрипка,
Покорно плачущая, он,
Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон.
И скажут – то луна и море,
Двояко отраженный свет —
И после – о какое горе,
Что женщины такой же нет!»
Но, не ответив мне ни слова,
Она задумчиво прошла,
Она не сделала мне злого,
И жизнь по-прежнему светла.
Ко мне нисходят серафимы,
Пою я полночи и дню,
Но вместо женщины любимой
Цветок засушенный храню.
«После стольких лет…»
После стольких лет
Я пришел назад,
Но изгнанник я,
И за мной следят.
Я ждала тебя
Столько долгих лет,
Для любви моей
Расстоянья нет.
В стороне чужой
Жизнь прошла моя.
Как украли жизнь,
Не заметил я.
Жизнь моя была
Сладостною мне.
Я ждала тебя,
Видела во сне.
Смерть в дому моем
И в дому твоем.
Ничего, что смерть,
Если мы вдвоем.
Владимир Маяковский
Любовь
Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.
В облачные пары сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряной мазурки,
и вот я – озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает – окурки!
Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.
«И чувствую…»
Из поэмы «Облако в штанах»
И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из мен я вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается,
как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
в касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
Лиличка!
Вместо письма
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
можешь быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет