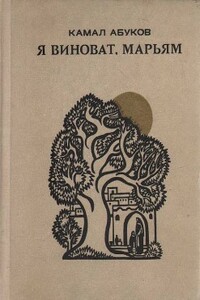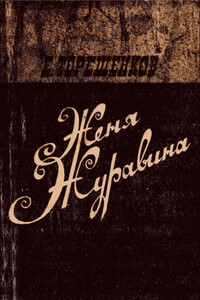Том 9. Письма 1915-1968 | страница 18
И в том немногом, что он успел создать, было много неудержимой тоски о небывалом, много шумов и звонов вечернего моря, много дикого очарования никогда не виданных стран.
«Звездное небо — единственное, что я хотел бы написать».
Но он не написал его. Я хочу узнать — почему.
Я еще не знаю, но меня тревожат некоторые строки его писем, написанных незадолго до смерти.
«Тоскующий взор мученика надрывает душу, как глаза извозчичьей лошади».
«Общество делает наше существование плачевным, и отсюда также наше бесплодие и несовершенство».
Своей жене, нежной и хрупкой, он писал. — C’est un emploi difficile, d’etre la femme d’un Poete!>4 И, едва сдерживая слезы, он рассказал ей потрясающую правду о Христе.
Если бы Христос опять пришел, Его бы не распяли, нет. Его бы превратили в какого-нибудь несчастного приказчика мелочной лавки, подождали бы, пока у него будут жена и дети, чтобы заморить их голодом и заставить Его преклониться перед обществом и государством. Это было бы мучительнее. А в ответ на Его пророчества ты (общество) подослало бы к нему чиновника с исполнительным листом, чтобы взимать по векселям и описать последние платьица Его детей, — это язвит сильнее, это вернее, это мучительнее, чем просто умирать на кресте в продолжение нескольких часов.
Его друг говорит о нем: «Переутомление и нужда подточили его нервный организм, но нужда не озлобила его сердца». Этот человек сошел с ума. Он мечтал о том, что околдует жизнь и она станет непрерывным праздником творчества, молением солнцу и воздуху, молодой радостью. И как он верил, что у него есть сила дать солнцу и самому небу их яркость и блеск.
Может быть, такого художника не было, но во мне он живет, и судьба его мучит меня. И о нем я хочу написать.
И если бы я мог. Если бы я мог так написать о нем, чтобы каждый вздрогнул от острой, непереносимой боли, чтобы немногие поняли, как оскорбительна и нелепа гибель этого озаренного мальчика, полного той юной, творческой целомудренной радости и любви, которые мне кажутся единственным оправданием жизни, чтобы поняли, как преступны и полны старой, прогнившей ложью все человеческие отношения, когда действительно человеку надо смертельно заболеть или подвергнуться большой опасности, чтобы иметь право на внимание и ласку.
Много, много я хотел бы написать. Напиши, Хати-дже, родная моя, что ты думаешь об этом. И напиши, если бы этот художник был жив и была бы большая, никому не нужная война, которую с таким тупоумием и упорством ведут люди; если бы его взяли силой и предложили ему умереть для выгод этих людей или заставили его сверлить гранаты, что бы он сделал?