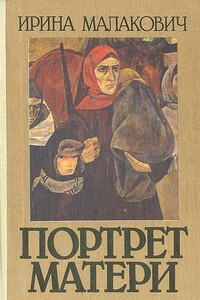Искры гнева | страница 20
Всякое случалось в жизни Мартына Цеповяза. В далёкие годы, ещё будучи парнем, начал чумаковать. Каждый год с ранней весны, как только просохнет земля, он надевал вымазанную дёгтем одежду и до глубокой осени мерил с волами дорогу до Крыма и Дона, до Галича и Молдавии. Не раз бывал и в Москве с деревянными и железными изделиями местных умельцев, с клубками пеньковых и льняных ниток, с рулонами полотна, коврами, гончарными изделиями. А сюда, в Каменку, чаще всего привозил соль, рыбу и оружие. Ног так в чумачестве и миновали его годы. Дорога и дорога, в непогоду и в зной. Встречался с добрыми и злыми людьми, но раз был раней. Дважды попадал в ясырь: до сих пор на руках и на шее носит он багровые полосы от татарской волосяной верёвки. Спасибо запорожцам-понизовцам, которые освободили его… И что бы ни случалось и когда бы ни возвращался домой, он всегда входил о круг родных, друзей, А сейчас…
«Это будто ты, Мартын, нежданно-негаданно обломался, — сверлило и пекло, — обломался, и некому подсобить… Эх, Цеповяз, до чего ты доработался, достарался. Да имеешь ли ты хотя бы хороший очкур?[4] Или только и того, что мотня дырявая… Ухватил, как тот шилом патоки… А может быть, это оттого, что носил ты голову только для шапки. Вот и вышло у тебя так — сеял гречку, а уродил мак…»
Изба Цеповяза находилась по ту сторону оврага, который делил село надвое — на слободу и старый посёлок. Изба стояла на вершине бугра. Дорога к ней была длинная, трудная — с горы на гору. Мартын шёл медленно. Да и к кому ему спешить? Дома его никто не ждёт, там — пусто. Выл сын, но ушёл лет десять назад на Запорожье — и ни слуху ни духу. А в этом году, ранней весной, умерла жена. После её смерти вышел Мартын из избы, запер на засов дверь и отправился с обозом в дорогу.
«Остались ли в избе хоть целыми окна да двери? — думал старик. — Впрочем, если развалились стены, то нужна ли крыша? А может быть, ещё рано тебе, Мартын, думать о тёмной норе? Может, ещё нужно посмотреть на белый свет? — начал он распалять сам себя. — Эх, Мартын, танцуй-ка до смерти, до последнего вздоха!..»
Встречные кланялись, приглашали зайти погостить. Мартын отказывался. Хотя после пережитого на дворе Кислия он не против был бы с кем-нибудь близким отвести душу, развеять жгучую обиду. «Но к кому сейчас ни зайди, начнут соболезновать, сочувствовать. Ведь на селе уже наверняка знают, что произошло со мной. А когда касаются больного, оно ещё больше болит. Да и то сказать, у людей праздник — воскресный день, прибыли дорогие гости — чумаки, — радость, а ты к ним — с горечью. Нет, нечего греть свои бока около чужого тепла… Да и заболит ли кому, когда у тебя, человече, ни в мешке, ни в горшке… Если уж так сталось, лезь плакать в лебеду, чем у мира на виду…» — раздумывал Цеповяз, ускоряя шаг.