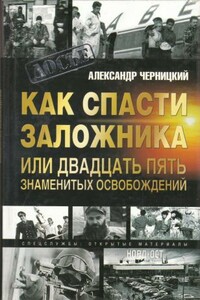Загадка Алатырь-камня | страница 114
Не привыкшие к абстрактному мышлению атяшевцы с большим трудом переваривали услышанное. Чтобы разрядить обстановку, ант сходу сымпровизировал тост за оседлость:
– За деревни да города – пей до дна, пей до дна, пей до дна!
Выпив, Ильдико бросилась на шею возлюбленному мужу, и они при всех, на совершенно законных основаниях принялись целоваться в губы. И тут грянул неожиданно откуда-то с небес слаженный хор:
– Бел-горюч камень Алатырь,
Всем каменьям в мире мати.
Из-под камушка, с-под Алатыря
Зачинались ветры чистые.
Из-под камушка, с-под Алатыря
Протекли реки быстрые
Всему миру на пропитанье,
Всему миру на исцеленье…
И хотя звучали эти слова на старославянском антском языке, их отчего-то понимали без труда все присутствующие.
Глава 33. Возвращение антов
Когда же и почему на северо-востоке Мордовии и соседнем юге Чувашии, исстари населенным мордвой, поменялся этнический состав населения? Сейчас там живут преимущественно русские, и кажется, будто так было всегда. Позвольте, а где мокшане с эрзянами, с незапамятных времен населявшие эти края, куда всосал финно-угров водоворот истории? И где, в конце концов, чуваши, которые также внесли немалую лепту в создание гуннского народа?
Ответ кроется в восстании знатного донского казака Степана Разина в 1670–71 годах. Застряв под Симбирском, Разин принялся распространять по окрестностям «прелестные грамоты», и кое-где голытьба прельщалась-таки возможностью легкого обогащения.
Краеведы Марискины (отец Иван и сын Олег) в книге «Летопись Атяшевской земли» (1998) отмечают, что из Атяшевского края Разину «направили отряды деревни Алово, Сыресево, Мамодышево, Батушево, Кулясово».
Естественно, проку от этих необученных и неопытных «войск» для удалого атамана почти не было; зато настоящей удачей стал переход на его сторону казаков да стрельцов, служивших на Симбирской оборонительной черте.
Вообще основная причина провалов всех казацких мятежей заключалась в малочисленности рубежного казачества (вольницы) по сравнению с казачеством внутренним, городовым: сначала князья, а затем цари сознательно изменяли это соотношение в пользу стрельцов.
Так, у разинского атамана Осипова (самозваного «царевича Алексея») была поначалу лишь одна казачья сотня. Сознавая свою малочисленность, атаманы принудительно рекрутировали, по словам казачьего историка Николая Василенко (1866–1935), «в каждом селе, через которое проходили казаки… по мужику с дома».
Конечно, прибивались к казакам и «охочие люди», и обиженные на господ крепостные, и старообрядцы, которые справедливо видели в казаках единоверцев. Но больше всего среди «волонтеров», было представителей «инородцев-нехристей». Их совершенно истерзали царские поборы, вину за которые разницы справедливо возлагали на «злых бояр».