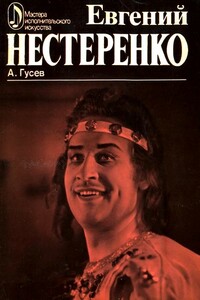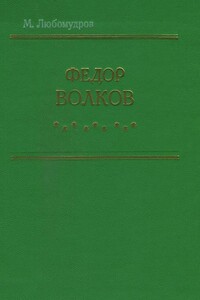Театральные портреты | страница 92
Когда праздновалось 35‑летие служения Савиной на Александринской сцене, был поставлен сборный спектакль. Савина дала ретроспективный, так сказать, очерк своей сценической жизни. Она показала нам четыре возраста и четыре профиля женской души в четырех актах из «Холопов» Гнедича, «Власти тьмы», «Месяца в деревне» и «Дикарки». С каждым отрывком мы как бы все больше переносились в даль пути, пройденного Савиной, и для тех, кто помнил ее в молодые годы, это была прекрасная, быть может, в субъективном смысле даже мучительно прекрасная панорама. Сказать, что М. Г. Савина хорошо играла в этот вечер — мало. Она играла очаровательно, и лично для меня воздушная тонкость и усталое увядание Натальи Петровны или поразительная изобретательность комических интонаций {151} в «Дикарке» были источником самой высокой поучительности и самого чистого наслаждения. Думаю, что и все моего возраста и театрального прошлого зрители испытали то же, но верхи, которые обыкновенно бывают так восторженны, потому что обыкновенно так юны, аплодировали вяло и нерешительно. Совпадение с жизнью в глазах молодости сплошь и рядом имеет большее значение, чем совершенство искусства: молодость живет больше жизнью, чем ее идеальным «отображением». Обратно — старость, которая ищет форм и наполняет свое существование формальной красотой.
Савина дала четыре лица, и все четыре лица были нарисованы одинаково мастерски, с одинаковой строгостью и изящной легкостью рисунка. Хотелось бы запечатлеть для будущего хотя некоторые черты ее изумительного сценического мастерства. Рисунок Савиной отличался гениальной меткостью и, можно сказать, стенографической краткостью. Экономия средств — этот самый драгоценный принцип художества — доведена была у Савиной до последней степени. Лицо, фигура — и это как в гриме, так и в костюме, и в интонации — характеризуются двумя-тремя штрихами, дающими яркое и совершенно определенное представление об изображаемом. В игре Савиной нет «многоглаголания». Ее характеристики, можно сказать, выражаются в афоризмах и «крылатых» штрихах. Она ищет какую-то одну, но необычайно стилизованную, суммарную, синтетическую и в то же время пластическую черту, охватывающую и исчерпывающую всю сценическую задачу. Если этой черточки, этого штриха она не нашла, — значит, роль у нее не вышла. А если она нашла, то роль уже незабываема. Вот Акулина во «Власти тьмы». У Савиной было всего два штриха: у придурковатой Акулины, во-первых, полузакрытый глаз, придающий ей какой-то