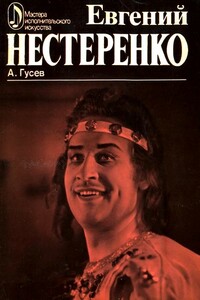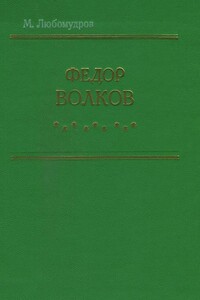Театральные портреты | страница 88
Когда ничтожество, бессмыслица жизни раскрывается последовательно перед глазами юмориста, он не может не прийти к великой грусти, к тайной тоске. Бывает так и в нашем житейском обиходе. Смеются, смеются люди — и вдруг словно тихий ангел пролетел. Как будто нависли не то предчувствие, не то раскаяние, не то грызущая пустота. Смех обрывает лепестки обманов и, в сущности, всегда горек, если не сейчас, то впоследствии, когда пройдет смена настроения и душа возжаждет увлечения.
И я верю, и всегда верил в то, что Варламов грустил — грустил по многим причинам: от необъятности своего таланта, которому не находилось часто дела по размерам; от неизбежных позиций Аза и Ферта; от того, что при виде его всегда фыркали; от того, что, когда он выкладывал всю душу в страдания изображаемого лица, непременно находились такие, которые говорили «странно» и досадовали на испорченный вечер: пришли смеяться, а их угощают слезами.
И когда при входе в Элизиум[112] привратник спросил у него, какое у него было амплуа на земле, — мне кажется, что Варламов на мгновение смешался и потом уже молвил:
— Пишите: любимец публики… Ну, вот так и запишите…
{144} М. Г. Савина[113]
Савину я увидел в первый раз на сцене, кажется, в 1883 году. Она играла в «Блуждающих огнях» Антропова (кажется, эта пьеса была еще репертуарной) младшую сестру. Я сидел на галерке, где было очень жарко и откуда не очень хорошо было видно. Театральные вкусы мои находились в самом примитивном состоянии. Тем не менее образ молодой, большеглазой, веселой, очаровательной, подвижной девушки, порхавшей, как птичка, по сцене, остался у меня крепко в памяти. Было такое ощущение, как будто кто-то взял большое опахало и повеял свежим ветерком, и словно {145} стало менее душно и жарко на галерке. Заправским театралом я стал значительно позже — приблизительно к 90‑му году прошлого столетия, и, собственно, научился ценить и понимать Савину уже в ту пору, когда половина ее сценической карьеры осталась позади. Савина стала глубже, зрелее, драматичнее. «Беззаботные жаворонки юности» улетели. Вот почему в моей душе образ Савиной сложился не совсем так, как он запечатлелся в живых и ярких характеристиках И. Л. Щеглова[114], В. А. Крылова[115] и других. Для них Савина была, так сказать, «подругой юности», для меня она — средоточие самых полных и значительных воспоминаний театральной жизни.