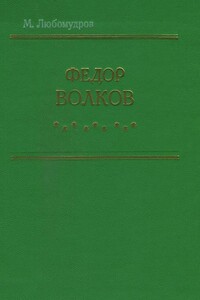Театральные портреты | страница 86
{140} Обломовщина ела Варламова, как она ела Россию. Конечно, Россию не проглотишь, и такой гигантский дар, как варламовский, и родная обломовщина не могла осилить; но затянуть — затянула. Комизм Варламова, как и его жизнь, были обломовские. Широкий, большой, с рокочущим голосом, весь круглый (у Толстого часто отмечается «круглость» у любимцев — у Пьера Безухова, Платона Каратаева и других) — Варламов был физическим сфероидом обломовщины. Говорил медленно, степенно, и в этой неторопливости, иногда даже намеренной растяжке слов, чувствовалось что-то необычайно милое и забавное. Веселый Обломов — только и всего. Потому что разновидности Обломова бывают разные, но сущность одна — люблю кругло жить, кругло чувствовать, кругло любить. Не люблю острых углов и ломаных линий.
Нечего греха таить. Варламов был ленив. Он этого стыдился и тщательно это скрывал. В своей автобиографии будто мимоходом старается в этом оправдаться, но, надо сознаться, довольно неловко. С очаровательной наивностью пытается он переубедить скептиков: «На репетиции еще с тетрадкой в руках нас начинает учить режиссер; во время следующих репетиций делают замечания товарищи, засим следует генеральная репетиция, где уже присутствует высшее начальство, родные, друзья, обсуждают грим, костюмы, и вот, пройдя этот тяжелый искус, попадаем на зубок рецензента, который почти всегда желчно настроен. Как оправдаться бедному актеру и сказать: неправда, я роль знаю, у нас нельзя ее не знать, заставят выучить. Я враг фарса и кренделей, а меня в этом-то и обвиняют. Глотаешь эти горькие пилюли и сквозь слезы улыбаешься, говоря: мне это все равно; но это неправда, сердце болит и самолюбие страдает ужасно».
{141} Варламов даже не чувствует, как сам себя выдает, рассказывая, как «учит режиссер» на репетициях, причем, обладая нормальной памятью, «нельзя не знать» ролей. Однако учить роль — значит учить ее дома, а не на репетиции. Только тогда и репетиция впрок, когда слова выучены и роль тщательно разучена дома. Но Варламов этого не понимал. Он был прав, что не любил «кренделей». Но за «крендель» сходили те его ужимки, обычные для него, те забавно-обломовские движения, которые составляли ценность его актерской натуры. У него были необъяснимо смешные «придыхания» и необъяснимо смешные жесты и движения, настолько яркие, что их нельзя было забыть, и, при частом повторении, они иной раз и казались нарочитостью, «кренделем».