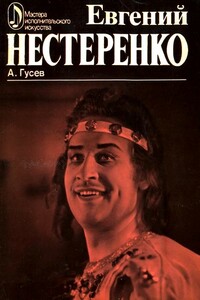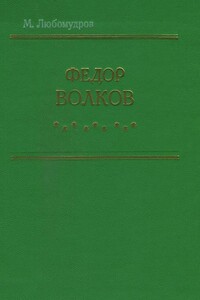Театральные портреты | страница 82
Варламов являл всем существом своим воплощение многих чисто русских свойств и особенностей. Был он добродушен и прост, учтив и благожелателен. Он принимал мир и людей, как они есть. Все были его приятелями, и всех он готов был кормить до отвала. Это приятие мира и людей у многих русских людей переходит в какое-то, если можно выразиться, всеобщее попустительство. Всем рад — званым и незваным — русский человек. Какая цена такому попустительству? В результате этой всеобщей милости не получается ли, в сущности, равнодушие? Все приемлю, ничего же вопреки глаголю… Это, конечно, черта возвышенная, черта смирения и кротости, но не на почве ли такого «непротивленства» вырастают многие тяжелые и ужасные явления {134} русской жизни? Не от того ли Россия страна чудовищных антимоний?
Сейчас мы не будем вдаваться в философию русской истории и в психологию наших общественных отношений. Несомненно, что «всеприятие» и «непротивленство» фактически приводят нередко к торжеству лицемерия, с одной стороны, и процветанию всякия скверны — с другой. Но мы ограничимся областью художественной и театральной. Здесь — в этом «всеприятии мира» — следует искать объяснения главной прелести и оригинальности таланта Варламова. Совершенно справедливо пишет один из критиков.
«Самые мрачные, казалось бы, безнадежно “злодейские” типы, дикие самодуры, жестокие мракобесы и глушители жизни получали на сцене более смягченное освещение, чем этого, может быть, иногда желали сами авторы. Варламов не способен был “казнить” никого из своих героев, и в самом отпетом из них старался отыскать человеческие черты. Эта особенность сценической трактовки Варламовым его комических и драматических ролей едва ли не самое драгоценное в том, чем он радовал и притягивал нас, сливая свою “простую душу” с душой театрального зала».
Вот почему Варламов так изумительно играл Островского. Только так — с точки зрения «всеприятия мира» — Островского и можно играть. Ибо не «обличение» «темного царства» есть суть Островского, а чувствование этого мира. Даже такая дрянь, как Ахов[109], и тот у Варламова был человек, которого он «принимал». Всегда говорил он: человек бо есмь, хотя дряни во мне видимо-невидимо. Величайшей красоты и правды достигал Варламов, играя Берендея. Берендейское царство — мечта Островского — это сказочное царство освобожденного через внутреннюю правду и свет совести человечества. {135} В этом царстве нет принуждения, нет преступлений. Если что дурное случится — сейчас царь Берендей все рассудит и само собой оно уладится, потому что как же устоять против правды? Берендею достаточно только выслушать — и правда воссияет… «Сказывай, милая, сказывай»… Берендей может ли гневаться? Но даже если и гневается, то сердце у него отходчивое. Вообще, дело тут идет по совести. Упрощенность отношений, сведение всей сложности и запутанности коллизий к простейшему голосу правды — вот что такое берендейский государственный строй. Уму Берендея недоступно противоположение интересов, каждому отводящее свое право. Берендей имеет догмат. Пред его глазами есть истина евангельская. Берендей — Варламов был не смешон — что же тут смешного? — а был умилителен, и этой умилительностью своей, небывалостью рождал радостную, светлую улыбку.