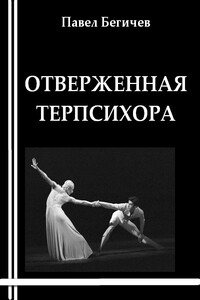Театральные портреты | страница 51
«Что он сделал из Ляпунова в “Скопине-Шуйском”, — пишет Ап. Григорьев, — он уловил единственную поэтическую струю этого дикого господина — я говорю о Ляпунове драмы, а не о великом историческом Прокопии Петровиче Ляпунове, — он поймал одну ноту {78} и на ней основал свою роль. Эта нота — стих “До смерти мучься… мучься после смерти”. Ну, и вышел поэтический образ, о котором, вероятно, и не мечталось драме, рассчитанной совсем на другие эффекты». Современники Мочалова, видевшие его в этой роли (Соловьев[41], Кублицкий[42]), так изображают впечатление от исполнения роли Ляпунова: «Страшному крику вторил радостный, но столь же страшный хохот мстителя — тот хохот, которым мог потрясать зрителей только Мочалов. Все были поражены силой трагического представления». А вот отзыв харьковского рецензента об исполнении той же роли: «Что это такое! Рост маленький, стан неловкий, голос слабый, жесты странные, нередко смешные. Боже мой, неужели это Мочалов? Неужели он? Мне говорят: погодите, разыграется. Да где же ему разыграться, когда он в лучших местах роли был просто уродлив?» И вдруг читаем дальше: «Мочалов вырос», «Какая величественная осанка — пишет харьковский рецензент, — какой взгляд, голос и это горестное, убийственное выражение лица! Но нот Мочалов бежит к окну, зовет, кричит… “Он умер, а им как будто И дела нет!” Это было лучшее место во всей роли Мочалова».
Каждый из приведенных отзывов находит лучшим особое место, и это не столько потому, что видели разное, сколько потому, что в разных спектаклях мочаловские «минуты» приходились на разные места роли. Но едва ли не самое интересное — это сопоставление начала и конца харьковской рецензии. В начале рост маленький, стан неловкий, голос слабый, а в конце — «вырос», «величественная осанка», «мощная грудь» «зовет, кричит»… Магия волшебного превращения пред нами налицо.
{79} Об исполнении Мочаловым роли Дон Карлоса читаем у Аксакова: «Он до того неровно играл, что, казалось, в одной и той же сцене говорили за Дон Карлоса[43] разные люди. Он впадал в такую тривиальность, что многие выходки можно было назвать истинно комическими». И Карла Моора Мочалов то играл «прекрасно», то «с разными выходками для райка»; то некоторые явления проводил «превосходно», то — в третьем и четвертом действиях «уже не находил в себе чувства и огня и заменял их неуместным криком, усиливая слабые места».
Роль Фердинанда в «Коварстве и любви» встречает такую оценку Белинского: «Мочалов вышел в мундире гарнизонного командира, в мундире расстегнутом и который, сверх того, сидел на нем мешок мешком. Потом игра, боже мой, какая игра!.. Конечно, были места два, да ведь эти два места продолжались две минуты, а мы высидели в театре с лишком три часа». А вот Галахов вспоминает, как Мочалов исполнял роль Фердинанда в «поре своей молодости»: «Искренний пыл, который обнаруживался и в сценах нежной любви, и в сцене отчаянной ревности». И далее следует ряд восторженных воспоминаний о подробностях исполнения Мочаловым роли Фердинанда. Значительно ровнее был Мочалов в ролях шекспировского репертуара. Но и тут читаем, например, у Аксакова об Отелло, что «Мочалов превзошел себя», что это было «торжество одного таланта», так как‑де «искусство» здесь и «не ночевало», что слова «крови, Яго, крови» были произнесены «самим Отелло». «Однако, — прибавляет Аксаков, — таков был удачный спектакль, а это не всегда бывает». Белинский, отмечая несколько мест, «от которых все предметы, все идеи, весь мир и я сам сливались во что-то неопределенное и составили одно целое и