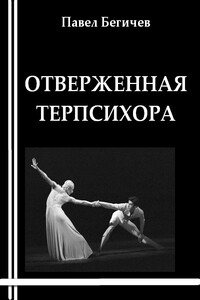Театральные портреты | страница 50
Очаровав, блеснув и забрав в карету ворох подарков, лавров и лент, Каратыгин тронулся в погожий весенний день назад в Петербург. На какой-то станции, как свидетельствуют совершенно точные записи современников, они, Каратыгин и Мочалов, встретились, как впоследствии встретились у Островского Геннадий Несчастливцев, шествовавший из Вологды в Керчь, и Аркашка Счастливцев, шествовавший из Керчи в Вологду. Каратыгин был полон скромного сознания своего {76} торжества. Он ехал с женой и видел в памяти своей «народы, веки и державы». Мочалов ехал в совершенно пустом возке — ни подарков, ни денег, ни жены, которая давно постыла, ни актрисы Петровой, отторгнутой от него административным порядком. Вероятно, Каратыгин при встрече был крайне учтив и высоко, не без церемонности приподнял свой моднейший цилиндр.
Вероятно, и даже очень, что Мочалов был в сильном градусе, но, добрый и независтливый, едва ли злобствовал. Вернее, он был рассеян. Может быть, он обдумывал какое-нибудь стихотворение — «Ответ могильщику»[38] и ту великую тоску, тайну которой он хотел схоронить в груди? Он знал, конечно, совершенно ясно, что провалился в Петербурге. И это как будто не раздражало его. Он не чувствовал Петербурга, и как только он вышел на подмостки, для него это стало несомненностью. Он играл, вероятно, так, как беседовал с Аксаковым о теоретических вопросах искусства. «Да‑с, нет‑с». Бог не приходил. Тайна творческого порыва улетела. И он сжался, свернулся, застыл пред этим городом и этой публикой, как сжался бы Ваня Бородкин пред Вихоревым из «Не в свои сани не садись». Пред трактирщиком Маломальским Ваня Бородкин весь, как есть, и он находит те самые нужные слова, которые отлично понимает Маломальский, которые идут от сердца и стучатся прямо в сердце. Но тут ничего не выходит, кроме «да‑с», «нет‑с» и еще страха пред генералами, особливо военными.
Приехав в Москву, Мочалов, может быть, впал в полосу страшного запоя, и может быть, наоборот, сходил в баню, оттуда в церковь, где усерднейше молился, а потом поехал в то знакомое купеческое семейство, где он чувствовал себя так хорошо и привольно, как изображено {77} на известной картине Неврева, где Мочалов читает монолог из своей коронной роли Мейнау в драме Коцебу «Ненависть к людям, или Раскаяние»,
Сердце мое подобно засыпанной могиле,
Пусть истлевает то, что в ней сокрыто.
* * *
Что представлял собою Мочалов как театральный феномен, как сценическое явление? Мочалов то был гениален и, по выражению григорьевского сонета, — «зала выла, как голодный зверь», то, по словам инспектора театра Храповицкого, «никуда не годился». С. Т. Аксаков с восторгом отзывается об исполнении Мочаловым в 1826 году роли Аристофана[39] в пьесе кн. Шаховского: «Сколько огня, сколько чувства и Даже силы было в его очаровательном голосе! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах». А через два года тот же Аксаков пишет: «Мочалов в роли Аристофана не походил ни на Мочалова, ни на представляемое лицо. Всю роль он проговорил не своим, а весьма тихим голосом, не одушевил самых лучших сцен, отнял у роли сардонический смех — первый признак Аристофана — и играл как будто нехотя». Об исполнении роли Волкова[40] читаем у Белинского: «Мы изучали Мочалова в роли Волкова. Жестикуляция его была напряженная, сильная до излишества, но одушевления не было». А за десять лет до этого о той же роли Аксаков пишет: «Мочалов был превосходен, говоря же о ботике Петра Великого, — достиг неподражаемого совершенства».