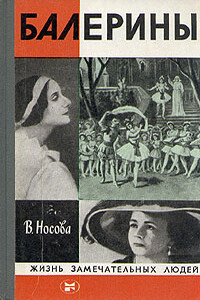Театральные портреты | страница 111
Он был превосходен в Парфене Рогожине[153], в Дмитрии Самозванце[154], Незнамове[155], местами — в Отелло. Он мне нравился как Чацкий — не потому, что это был психологически верный Чацкий (если Чацкий вообще может быть психологически верен), — но потому, что протест бунтующего духа, дерзкий вызов обществу, надменное превосходство личности над всяким хоровым началом — это и был сам Мамонт Дальский, персонально. Конечно, было странно, что при таком Чацком дышит и пользуется благосклонностью Софьи какой-то Молчалин, которого он может пальцем придавить. Но от комедии {184} Грибоедова следует брать то, что в ней есть, а не выдумывать психологическое правдоподобие интриги, которого нет. Если Чацкий — бунт, то Дальский был превосходный Чацкий.
Такой же бунтующий, неукротимый, только себя обоготворяющий, анархический дух был и в его «Уриэле Акосте»[156]. Хуже обстояло с такими ролями, как Дон Карлос, Фердинанд и вообще шиллеровский цикл. В Дальском не было ни сентиментальности, ни утонченной внутренней культуры, ни гармонии сердца и ума… Но у него безумной страстью горели глаза и рот кривился то детской улыбкой, то грозным гневом и весь он трепетал волной жизни.
Таким он был, но таким Дальский давно перестал быть. Буйство увело его из театров, где он должен был себя самоограничивать, в театры, где он гастролировал и мог сказать о себе толпе маленьких актеров и разного театрального люда: «Я — червь, я — бог, я — царь, я — раб». Начались потехи с театральными портными и парикмахерами, этими вечными жертвами актерской неуравновешенности. Школы у Дальского вообще не было. Не было ни выработанной грации, ни установленного стиля декламации, ни облагороженных выучкой манер. Было свое, богом данное, полыхавшее в молодости талантом и обаянием мужской красоты.
С гастролерством же пришли и полнота брюшка, и развязная подчеркнутость, и гастролерское нажимание. Прошло с десяток лет, и, когда я увидал Дальского в Малом театре А. С. Суворина, где он играл несколько месяцев на правах полугастролера, — это было настолько не то, настолько жирно, грубовато и, в сущности, крикливо, что мне стало безумно жаль воспоминаний о старом, бывшем Дальском, который давал там много на сцене и порой бывал так мил в товарищеском кружке.
{185} Вообще я не знаю ни одного гастролера и ни одной гастролерши, которые бы, в большей или меньшей степени, не утрачивали значительной части своих достоинств по мере своего гастролерского успеха. Даже гениальная Дузе с каждым приездом портилась — не потому, что слабели ее выразительные способности, а потому, что вся практика гастролерства есть «театр для себя», во имя свое, во славу свою. Театр, поскольку наш театр является продуктом сложного сотрудничества и исполнения авторских заданий, есть учреждение общественное, и потому актер должен вполне соответствовать аристотелевскому определению человека, как «zoon politikon», животного общественного. И фимиам успеха и лести, и необузданная реклама, являющаяся экономическим базисом гастрольной системы, и внимание легковерной и малоразборчивой публики, которая, при гастролях, и не желает ничего и никого смотреть, кроме гастролерской игры, — все это, даже при добром желании и при хорошем вкусе, неумеренно выпячивает игру гастролера. Он должен стараться, должен быть на «высоте» положения, должен разнообразить игру не только для публики, но и для самого себя. Получается нечто аналогичное почерку каллиграфов-переписчиков: они пишут прекрасным почерком, но никогда — почерком благородного вкуса, потому что уснащают буквы завитушками, хвостиками, всяческой «эстетикой», простые же буквы им опостылели. Так, на гастролях окончательно испортился даровитый актер Орленев; так, огрубел и выпятился Дальский, у которого личное начало и вообще-то било через край, сообщая всей его жизни такой беспорядочный, необузданный, беспутный характер.