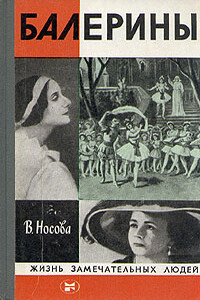Театральные портреты | страница 110
{181} М. В. Дальский[152]
Мамонт Дальский, угодивший под трамвай и раздавленный насмерть, являет собой одну из самых характерных фигур русского сценического мира. И смерть его какая-то странная, необычная, и жизнь его была такая же. У буддистов есть учение о «Карме» — некоей сумме предсуществовании, определяющей судьбу. Это — то же, что библейские «грехи отцов на детях», но более тонкое, сложное и мистическое. Вот такая «Карма» вообще во всей семье Дальского. Сестра М. Дальского, Магдалина, красавица, даровитая актриса, кончившая так необыкновенно свою жизнь, со стрельбой, убийством, {182} тюрьмой и пр. Брат М. Дальского, Ланской, тоже не безызвестный актер, недавно убитый во время гражданской войны… И наконец трамвай! Подлинно: попал под колесницу жизни — и раздавлен!
Дальского я знал очень давно — во всяком случае, более четверти века. Помню его красивым молодым человеком с горящими глазами и пухлыми капризными губами. При всей бессмысленной изломанности характера, при всем великом беспутстве, в Дальском было и что-то детское: в губах! Как это ни неожиданно для многих, Дальский был способен к хорошим порывам, и душа его была далеко не мелкая.
Он себя именовал «анархистом», и по праву. Известная моральная неустойчивость, конечно, придавала его «анархизму» довольно своеобразный характер, но все же надо признать, что, действительно, его натура, его душа, его талант — были насквозь анархичны и гордо индивидуальны.
В труппе Александринского театра он не уживался. Его считали надменным, нахальным, дерзким. Да, все это было. Но я его знавал и видел нередко очень простым, очень мягким и очень податливым. К нему надо было уметь подойти. К нему, однако, никто за всю его жизнь не сумел подойти и раздуть огромные возможности этой далеко не ординарной личности.
Он таил в себе громадные силы, и не следует судить о Дальском по последним годам, когда загастролировавшийся, опустившийся, «окречинившийся», так сказать, он громыхал своим трагическим баритоном, выставляя на вид плохую методу игры и малые остатки великого вдохновения. Среди русских драматических актеров я не знал ни одного с таким мощным драматическим темпераментом. Был еще Горев — и то в своей {183} молодости, — но Горев был более лиричен — «любовник», а не «герой». Дальский же был чистокровный драматический герой.
В одной из своих рецензий я определил Дальского, как «жестокий талант», взяв этот эпитет у Михайловского из статьи его о Достоевском. Дальскому это выражение очень понравилось, и он меня особо за это определение благодарил. Я хотел сказать этим эпитетом, что Дальскому очень удаются на сцене характеры не столько мучеников, — ибо мученики пассивны, — сколько мучителей, а главное, беспощадных и властных людей. Но Дальскому это нравилось с другой стороны. Он склонен, кажется, был толковать «жестокость» в том смысле, в каком она понимается старинными куплетами: «Что на свете прежестоко? Прежестока есть любовь!» Ему нравилось, что он внушал, так сказать, «трепет». В нем жила душа какого-нибудь деда или прадеда, бретера и задиры, александрийского гусара и кавалерийского ремонтера, грозы ярмарочных понтеров и сентиментальных губернских дам. И на сцене Дальский был очень хорош, когда бывал грозен. Но грозность его, однако, была не сухая, а пламенная, и «жестокость» тоже была не злобная, а обжигающая.