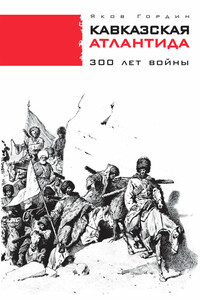Моя армия. В поисках утраченной судьбы | страница 79
Миша взял на себя функцию снабжения меня книгами. Во всяком случае, их выбора. «Тебе будет послан толстенный том Брет Гарта. <...> В продаже есть книга Виппера „Борьба течений в итальянском искусстве XVI века". Она будет куплена и послана тебе после того, как будет прочитана в Ленинграде».
Не помню, получил ли я Виппера, но во второй половине 1956 года мне уже было не до такой изысканной литературы. Да и не до литературы вообще...
Пока же, осенью 1955 года, несмотря на жизнь вольготную, книги занимали в этой жизни не прежнее, но значительное место.
К этому времени я стал смотреть на происходящее со мной как на некое приключение, чему способствовала смена амплуа, смена географического пространства. Это, конечно, была служба и в то же время путешествие. И у меня появилось ощущение изжитости «монгольского периода». Я знал, что будут перемены, и перемены к лучшему, перемены, несущие новые впечатления.
Через несколько лет, когда я работал в экспедициях на Севере, такое же чувство было у меня перед каждым отъездом в мою Якутию и, более того, каждое утро уже в тайге — перед каждым новым маршрутом. Мне хотелось увидеть, что там, за следующим водоразделом или — в Верхоянье — за следующим перевалом... В этом была особая прелесть экспедиционной работы. Нечто подобное стало ощущаться и в армии.
В ноябре 1955 года я написал последнее, так сказать, интеллектуальное письмо. Точной даты нет. На ленинградском штемпеле — 28.XI. Стало быть, отослано было авиа, дня за четыре.
«Я, как всегда, здоров. Бездельничаю. Читаю. Готовлюсь к отъезду в тайгу.
Взял вчера в библиотеке (В полку уже была своя библиотека. — Я. Г.) очень занятную книгу. Называется она „Качалов''. Толстая, в белой обложке. Может, видели? Его статьи и, в основном, о нем. Его творческая биография. Разбор всех его работ. Какой гигантский диапазон. От Вс. Иванова до Гамсуна. Он играл в гамсуновской пьесе „У врат царства". Очень сильная и весьма известная вещь. Играл главную роль интеллигента-ницшеанца Ивара Карено. На этот счет говорится, что зритель, мол, завороженный и т. д., переставал слышать его „повисшие в воздухе" реплики о сверхчеловеке. То есть бедный зритель не понял абсолютно ничего. Идея „сверхчеловека"—суть пьесы. „Актер вступил в единоборство с автором". Хорошая ситуация. А спросить автора всей этой чепуховины: что такое „сверхчеловек", реплики о котором повисают в воздухе, вряд ли он скажет что-нибудь путное, помимо стандартных глупостей, такие вещи противно читать. Что меня поразило особенно, так это качаловский концертный репертуар. Нужно иметь блестящую