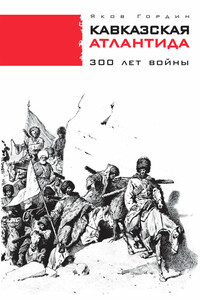Моя армия. В поисках утраченной судьбы | страница 22
Дело в данном случае не в том, насколько прав персонаж Горького. Просто юному меломану и книжнику, чтобы чувствовать себя настоящим солдатом, органично существующим в новой среде, необходимо было культивировать именно суровость, брутальность. Это был естественный для него — через культуру—способ психологического выживания...
При этом жестко структурированный быт, в который он теперь был встроен, провоцировал тягу к внутренней упорядоченности.
Тоже 10 февраля. «Занятная вещь. Читая Самгина, я снова почувствовал, что между нами есть нечто общее. Например, возьмем такой отрывок: „Самгин не впервые представлял, как в него извне механически вторгается множество острых равноценных мыслей. Они противоречивы, и необходимо отделить от них те, которые наиболее удобны ему. Но когда он пробовал привести в порядок то, что слышал и читал, создавая круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность,—это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий... Его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли, кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя: „Ведь не глуп же я?"
Хотите, смейтесь. Но мне это знакомо. Разумеется, кроме „насилия умников". Я тоже еще не успел создать из всего того, что я знаю, четкий круг мнений, который бы с достаточной яркостью подчеркивал мою личность. Я читал много и слишком быстро, не успевая приводить в систему ранее приобретенные знания».
Да, с книгами было лучше, чем с музыкой.
Воскресный день 16.I.1955. «Отдыхали сегодня после обеда полтора часа. Спать я не спал, а читал Толстого. До обеда
прочитал „Хаджи-Мурата". Превосходно. Такая умная про
стота, что просто завидно. На отдыхе прочел „За что?". Это уже не то. Вообще в последних его „толстовских" произведениях меняется стиль. Становится проще, суше, фразы короче... Завтра опять в сопки. „Вперед, ура!" <...> В Эрмитаж хочется сходить, но, к сожалению, далековато, за воскресенье, пожалуй, не успеть».
6.11.1955. «Я кончил Синклера „Между двух миров". Хорошо. Очень. Ланни Бэдд—занятная фигура, не знаю, правда, насколько жизненная. Но меня она заинтересовала—нас есть кое-что общее.
Книга, без сомнения, умная, но есть одна фраза, которая, увы, кажется мне сильно сомнительной. Речь идет о книге Гитлера „Моя борьба". Синклер говорит: „Гитлер заимствовал свои фантазии из вагнеровской версии мифа о Зигфриде, а также у Ницше, который, как известно, сошел сума, и у Хьюстона Стюарта Чемберлена, которому и сходить-то не с чего было". Насчет умственных способностей Чемберлена Синклер осведомлен лучше меня, поэтому сия сторона вопроса дискуссии не подлежит. Но он, по-видимому, не имеет ни малейшего представления о „вагнеровской версии мифа о Зигфриде". Таковая версия действительно существовала. Вагнер сам писал либретто „Зигфрида", как, впрочем, либретто всех своих опер. Однако эта опера была написана в эпоху европейских революций 30-го года. Молодой Вагнер в это время находился под влиянием весьма радикальных идей, он принимал участие в революции вплоть до ломки мебели в правительственных учреждениях. Он раздавал листовки солдатам. Его искали, заочно приговорили к расстрелу. Он был вынужден бежать в Швейцарию. О „Зигфриде" он писал: „Это революционная опера. сам Зигфрид—тип социалиста-искупителя, пришедшего на землю, чтобы освободить людей от власти И маловероятно,