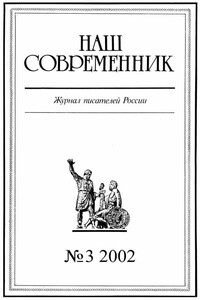Непрерывность жизни духа | страница 9
Главным “чаеваром”, собирателем целебных трав в лесу по дороге на работу и, вообще, главным кулинаром в музее был, как и полагалось по его высокому статусу, главный хранитель фондов Вадим Васильевич Кириченко. Особенно он отличался в постные дни, которые неукоснительно соблюдались в музее. Разнообразные ячневые, пшенные, с тыквой, с пшеничными отрубями и т. п. каши, густой кулеш, чечевичная похлебка единодушно признавались вершинами его искусства. Но Вадим Васильевич, конечно, разбирался не только в кашах.
О его способности точно атрибутировать икону, то есть установить время и место ее создания порой по совсем неуловимым признакам, по крохотной “пробе” на ее поверхности, ходили легенды. Казалось, он мог проникать взглядом сквозь потемневшую олифу, слои живописных записей до самого древнего их основания — это было похоже на чудо и напоминало прозорливость древних анахоретов. Да и сам Вадим Васильевич с его аскетической внешностью, светлым лицом, длинной бородой, ровным и тихим голосом казался мне человеком Древней Руси, неведомо как попавшим в наше время. Мэтры искусствоведения во время открытия выставок икон подсылали к нему учеников, аспирантов, чтобы те, держась поблизости от Вадима Васильевича, подслушивали его суждения, а затем использовали в своих работах. Я и сам был свидетелем удивительной проницательности В. В. Кириченко, когда служил в музее-заповеднике “Коломенское”, куда его пригласила для консультаций главная хранительница этого музея, известный реставратор Маргарита Армановна Гра. В. В. Кириченко без всякого видимого усилия чуть ли не по годам датировал целый ряд произведений древнерусского искусства.
Рядом с Вадимом Васильевичем, как на троне, восседал искусствовед и сын искусствоведа, выдающегося специалиста по “самому близкому” декоративно-прикладному искусству, отпрыск старинного русского дворянского рода, худощавый, узколицый, порой надменно недоступный Александр Александрович Салтыков. Я его нередко встречал в Ленинке, где эта высокая, сухая фигура в белом чесучовом костюме неизменно вызывала благоговейное уважение у библиотечных служительниц: гардеробщиц т. д., особенно когда он сдавал им на сохранение свои черные калоши. Ныне он — настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей о. Александр.
Но, конечно, главным лицом за столом была Милена Душановна Семиз. В музее она заведовала библиотекой, однако не эта скромная должность определяла ее первенствующее положение в музейном обществе. Я всегда именно такой представлял себе французскую королеву Екатерину Медичи, когда читал романы Александра Дюма. Ее гордо посаженная голова, царственная осанка, нерусская красота выразительного лица с глубоко посаженными глазами, тонким носом с аристократической горбинкой; пышная копна густых, с сильной проседью волос, упорно сопротивляющихся любым попыткам собрать их хотя бы в некоторое подобие прически, — все это складывалось в образ женщины властной и незаурядной, привыкшей повелевать, а не подчиняться. Сама себя Милена Душановна иронически называла “старушкой” (да и другие ее так за глаза называли), и было в этом прозвище что-то неуловимо щемящее, но уважительное — все-таки королева находилась в изгнании, в монастырском заточении.