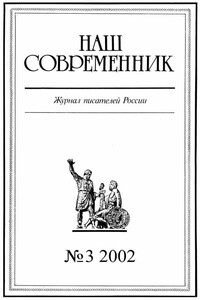Непрерывность жизни духа | страница 7
Вот безупречно точный анализ композиционных и прочих художественных особенностей “Троицы”, содержащийся в главе, специально ей посвященной. Этот анализ необходимо включает толкование символического смысла каждой детали иконы, раскрывая вечную суть “умозрения в красках”, созданного “в память и похвалу” основателю первого на Руси Троицкого монастыря — преподобного Сергия Радонежского: “Да воззрением на святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего...” Вполне закономерен итог: в своем шедевре святой инок “с гениальным совершенством воплотил мысль о том, что любовь и единство святы, они — основа всего бытия, не искаженная злом идея жизни. Всегда, везде и во всем. И сейчас и во веки веков...” Не случайно книгу В. Н. Сергеева об Андрее Рублеве называли одним из веских аргументов при решении вопроса о канонизации великого православного художника Древней Руси (1988).
Подобный подход во многом близок к методологии знаменитой работы Л. А. Успенского “Богословие иконы православной церкви”. Но труд Успенского впервые вышел по-французски в Париже в 1980 г., русский оригинал был опубликован еще позже. Курс иконоведения, который ученый читал при Экзархате Московской Патриархии в Париже с 1954 по 1960 г. и который лег в основу книги, В. Н. Сергеев, понятно, слышать не мог. Хотя, конечно, отдельные статьи Л. А. Успенского издавались Западно-Европейским Экзархатом, печатались в “Журнале Московской Патриархии”. Л. А. Успенский даже прочитал несколько лекций по истории и богословию иконы в Московской Духовной Академии. В. Н. Сергеев был хорошо знаком с Л. А. Успенским, тот бывал и в Рублевском музее, и дома у Валерия Николаевича. Дружил Сергеев с близким учеником и сотрудником Л. А. Успенского, известным специалистом по истории христианского искусства и богословию иконы профессором-протоие-реем Николаем Мартыновичем Озолиным. Приезжая в Москву, о. Николай обязательно посещал Рублевский музей. Словом, связи В. Н. Сергеева с православными учеными, занимавшимися проблемами древнерусского искусства за рубежом, уже тогда были достаточно прочными и устойчивыми. Но говорить о том, что их идеи прямо повлияли на него, не приходится: такова была общая тенденция осмысления великого наследия прошлых веков.
Сергеев был одним из немногих специалистов, которые следили за развитием иконописания за рубежом. Он серьезно занимался творчеством о. Григория Круга, Д. С. Стеллецкого, Е. Е. Климова и др. Через много лет исследователь опубликовал о зарубежных иконописцах ряд статей и даже посвятил Парижской школе иконописи (1920—1980) особую работу. Она была частично напечатана в № 3 Вестника Российского гуманитарного научного фонда за 2000 г. Для Валерия Николаевича никогда не существовало разделения православного мира и православного искусства. В Рублевском музее бывали многие выдающиеся православные церковные деятели и ученые как из-за рубежа, так и из России: митрополит Сурожский Антоний (Блум), о. Иоанн Мейен-дорф, о. Всеволод Шпиллер и др.