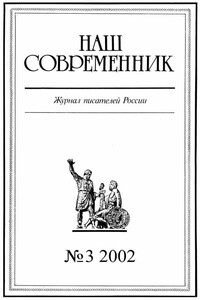Непрерывность жизни духа | страница 5
Валерий Николаевич, как мне кажется, и по внешности, и во многом по повадке принадлежит к среднерусскому, даже старомосковскому характерному типу. Небольшой рост, полноватая фигура в мешковатом костюме, над высоким лбом с залысинами зачесанные назад слегка волнистые волосы, голубые глаза за стеклами очков. Так мог выглядеть московский батюшка, а то и архиерей (впрочем, в те годы Валерий Николаевич был без бороды). Но не обязательно: похожие москвичи пели в церковных хорах, после того как отторговали в лавках Гостиного двора, или прочитали с университетской кафедры лекцию о философии Шеллинга, или со стетоскопом на груди навестили немощного и скорбящего. Главное в этом типе — его естественная и глубокая укорененность в толще народной, повседневной жизни, но тут же следует подчеркнуть — православной жизни. Такими или почти такими были, по-моему, Михаил Погодин, Иван Забелин, Иван Снегирев, Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Алексей Бахрушин и многие другие. Иереи, монахи, профессора, врачи, купцы, писатели и т. д. и т. п. Они были книжниками, но не фарисеями. Они были практиками, прежде всего, в том смысле, что до обиходных мелочей знали дело, которым занимались и которое любили. Они не придумывали себе православия и не придумывали себя в православии, но органично жили в нем, как веками жили их предки. И никакие войны и революции не могли отклонить их с этого — главного — пути. На такой основе и возрастал дух, интеллект, многообразные дарования этих людей.
И, конечно, на ней же расцвел и один из главных талантов Валерия Николаевича Сергеева — дар слова. Хочется думать, что учеба на филологическом факультете МГУ отточила, огранила это дарование. Пусть старославянский язык преподавался нам узко лингвистически, даже формалистически, во многом в отрыве от насквозь православной древнерусской литературы (она читалась особо) и, уж тем более, от богослужебных текстов. Но это был церковнославянский язык, о котором Пушкин писал, что “как материал словесности” он “имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими”. Блестящую историческую характеристику, данную поэтом родному языку, нельзя не продолжить. “В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени”. Далее Пушкин делает уже вполне практический вывод: “Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они