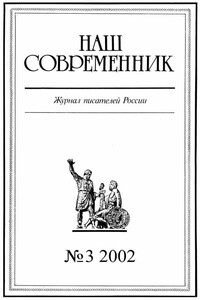Непрерывность жизни духа | страница 13
Или другая картинка. Жарким днем, усталые, мы бредем по тропинке, вьющейся по бесконечному полю, и замечаем фигурку, следующую тем же маршрутом. Нас нагоняет пожилая женщина, здоровается (как всегда принято здороваться в русских деревнях даже с незнакомыми людьми), мы отвечаем. Она уже готова продолжать свой путь, но, всмотревшись в наши лица, разворачивается и, засеменив ногами, вдруг подходит ко мне, сложив руки перед собой: “Отец Александр! Благослови!” Я замираю в недоумении, потом объясняю, что не имею права благословлять, ибо не священник и т. п. Она с таким же недоумением выслушивает мои объяснения и, укоризненно покачав головой, удаляется. Но дальше — больше. То и дело ко мне начинают подходить “под благословение”: в кузове грузовика, везшего доярок и рабочих на ферму и решившего подвезти и нас — “пешеходцев”; на сельской улочке и т. д.
Тут необходим комментарий. Дело в том, что, женившись в 1971 г., я отпустил бороду — можно сказать, что и по “идеологическим” причинам. Одна из моих первых публикаций как раз и была посвящена проблеме “идеология — внешность”. Сколько мне пришлось претерпеть из-за этого, лучше не вспоминать: различные начальники разве что с ножницами ко мне не подступали, пафос петровских преобразований никак не мог в них иссякнуть. Но в Москве все, так или иначе, образовывалось: ну, причуда человека творческой профессии и т. п. Бородачи в столице не то чтобы часто, но встречались, и уж никак не реже, чем священники.
Как выяснилось, в провинции было иначе. Мне не раз приходилось растолковывать, что и Пушкин на отдыхе, в деревне, любил отпускать бороду. При этом поэт приговаривал: “Борода да усы — молодца краса! Выйду на улицу, — дядюшкой зовут!”. И т. п.
Этой странной ситуацией мы были заинтригованы, особенно я: незримое присутствие “двойника” будоражило воображение. Валерий Николаевич высказывал предположения, что о. Александр может оказаться каким-нибудь неизвестным моим родственником, ведь мало ли как бывает на свете и т. п. О. Александр был настоятелем единственного действующего на огромной территории деревенского храма и, естественно, являлся в округе личностью почти легендарной. Нужно ли напоминать, что все хорошо помнили времена хрущевских гонений на церковь, когда и немногие уцелевшие храмы закрывались один за другим, “двадцатки” разгонялись и т. п. Но встреча с батюшкой, к которому у нас были к тому же какие-то поручения, все откладывалась и откладывалась. Мешали неотложные экспедиционные дела, все время уводившие в сторону от села, где он служил.