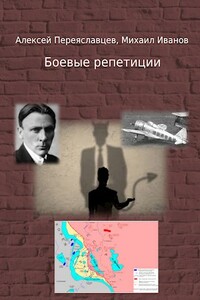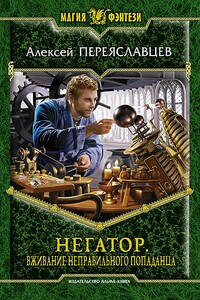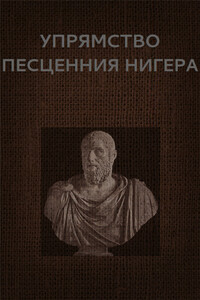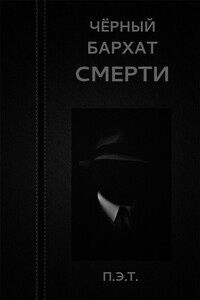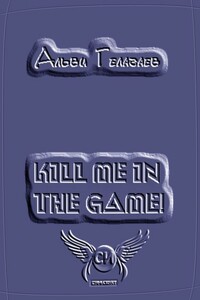Зимний гастрольный тур | страница 13
А вот почему именно в этом направлении должны быть устремлены действия вертолетов — знали в штабе Апанасенко. Они видели всю картину.
Было бы несправедливо и даже оскорбительно полагать, что во время действий в воздухе наземные части бездействовали. Совсем наоборот.
Но также было бы неправильным утверждение, что тяжелая и легкая бронетехника осназа пошла в прорыв. Не было такого.
Да, могучие танковые дизели изрыгнули рев и облака черного дыма, а сами танки, чуть качнувшись на торсионах, пришли в движение. На всех передовых машинах были минные тралы. Да, сзади их поддерживали БМП, которые очень многие из осназа полагали другой разновидностью танков — пушка была явно поменьше, чем у Т-72. Но прорывать можно оборону, а ее-то, можно сказать, не осталось.
Сопротивления почти не было, хотя уцелевшие имелись. Все до единого получили контузию той или иной тяжести. От дзотов не осталось просто ничего, кроме ям. Надолбы оказались срытыми. По непонятной прихоти судьбы, некоторые мины уцелели — чтобы быть протраленными.
В какой-то момент, повинуясь командирам отделений, из БМП посыпалась пехота. Люди, сторожко оглядываясь, шли вперед. Первая линия обороны была пройдена без выстрелов.
Не прошло и суток, как случилось чудо — по крайней мере, так его мысленно охарактеризовал подполковник Лаппинен, командовавший именно тем участком обороны, на котором предполагалось направление главного удара. Таковой не состоялся. Точнее, он резко изменил направление на юго-запад.
Коварный замысел русских, которые и не подумали пробивать кратчайшую дорогу к Виипури (он же Выборг) в лобовой атаке на то, что получило название "линия Маннергейма", через некоторое время стал понятен финскому командованию. Проводная связь была нарушена мощным артобстрелом, а радиоперехват ничего не дал: или слышалось невнятное шипение и треск, или же сообщения звучали на совершенно незнакомом языке. Стоит заметить, что в самой Финляндии существовало отнюдь не малое количество людей, хорошо владевших русским. Не в последнюю очередь это относилось к маршалу Карлу Густавовичу Маннергейму, бывшему конногвардейцу, который до конца своих дней так и не выучился прилично говорить на финском. Правда, большинство из знатоков русского помнило его еще с царских времен, но некоторые изучали язык противника уже после революции, подарившей Финляндии независимость. Вот почему картину происходящего приходилось восстанавливать на основании не особо точных донесений с поля боя, если таковые вообще доходили.