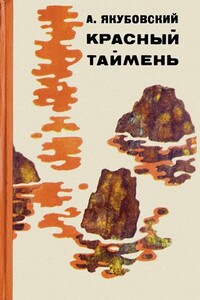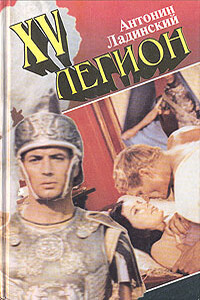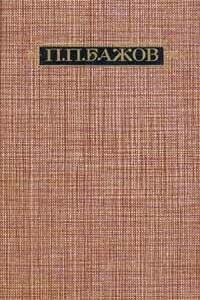Квазар | страница 54
Покусывали комарики. Сильно поредевшие воробьи чирикали на заборе. К ним промеж грядок крался худой — почти скелет — котик. От предвкушения его нижняя, в белой шерсти, челюсть дергалась.
— Тюк-тюк-тюк, — постукивал Апухтин. Вышел Юрий. Худ, прозрачен. Сел рядом, потянулся.
— Давай я.
— Бей, — сказал Апухтин. — Я что-то плохо вижу сегодня.
И хлюпнул носом, завозился на крыльце.
— Ты это чего? — спросил Юрий.
— Слышь, Юра, — сказал Апухтин. — Меня сегодня в военкомат вызывали.
— Зачем? Ты же бронированный.
Он поднял голову и смотрел на отца. Уши его просвечивали.
Отец глотнул, уставился в землю. Потом заговорил деревянным голосом:
— Помнишь, запрос мы с тобой… делали? Почему, мол, не пишут. Вот… из-за него…
Апухтин поднял голову и посмотрел на Юрия мертвыми глазами.
— Слышь, Юра, одни мы с тобой остались… Убили, растеряли твоих братиков… Зачем? Почему? Кто виноват? Права была старая язва, права.
Юрий заплакал, вздрагивая плечами, и привалился к жесткому боку отца. Одни они были на крыльце, никто не смотрел, не слушал. Можно было и плакать.
Отец все ершил Юркины волосы твердыми, корявыми пальцами и бормотал:
— Ничего, ничего, как-нибудь… Иди, поешь чего… Ступай.
— А ты? — спросил Юрий, размазывая грязь по лицу.
— Я? Ах, да… Я на крышу — доску прибить надо. Давно собираюсь, неделю. Вот сейчас залезу и подобью.
Он взял гвозди, взял топор и по лестнице поднялся наверх. Забрался на конек, сел, свесив ноги, и прибил отстающую доску. Потом задумался, понурил голову. И вдруг, закричав: «Гады, сволочи! Мать вашу так!» — с размаху вогнал топор в конек крыши. Брызнули щепки, а он рубил и рубил. Внизу завопил Юрка, из дома выкатились беженцы, кричали, шумели. Апухтин остановился. Потом, будто и не он рубил, слез, вытащил из сарая доску и стал чинить крышу. И починил-таки еще до наступившей глухой темноты.
Но с этого вечера он словно закостенел. Ни с кем не говорил, никого, кроме Юрия, не замечал. Ел самую малость. Глядел на всех прямо и резко. Не то он думал что, не то просто таращил глаза. Осенью, в туманное августовское утро, глотающее звуки и очертания, угодил, переходя железнодорожные пути, под паровоз. Его похоронили.
Дом темнел…
В июне сорок шестого, в сумерках, к дому подошел какой-то человек. Остановился и долго смотрел на хмурый дом, на мертвые его окна. Отсветы ложились на старые стекла, но большинство окон были мутны, завешаны чем-то, как бельма слепого. Прислушался — тишина, только кипели июньские жуки в липких тополевых листьях.