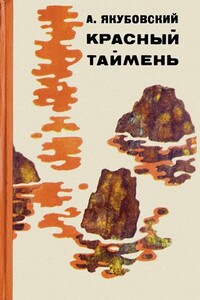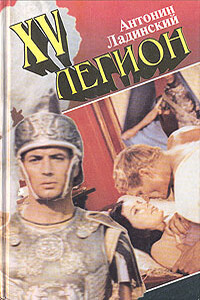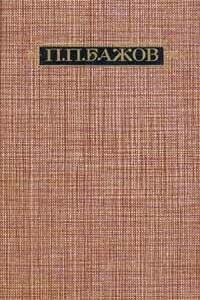Квазар | страница 53
А дом требовал работу. Его нужно было все время сберегать, подправлять, делать лучше, удобнее и готовить к возвращению сыновей. К тому же эта работа отгоняла дурные мысли. Старик путями неведомыми и извилистыми добывал тес, гвозди и даже натуральную, вкусно пахнущую олифу. Он все подколачивал, постукивал, и вечерами можно было найти его в доме по этим стукам, то несшимся с чердака, то пробивающимся откуда-то снизу, из-под пола.
…Подошел сорок четвертый. Майским вечером старик, пошатываясь, нес домой тяжелую плаху (выменял ее на булку черного малопитательного хлеба). На улице повстречал тетю Фешу.
Эта по-прежнему существовала своими козами. Еще — гадала. Еще — пекла на базар драники из картошки, перетирая ее на какой-то скрипучей машинке. Дела ее, видно, шли неплохо.
За войну она расплылась. Груди тяжело обвисли, глаза сузились в щелочку, ноги лезли из туфель, и тетя Феша жаловалась всем, что пухнет от голода.
Но жир был здоровый, розовый, хлебный. Апухтин, глядя на нее, вдруг подумал, что вот тетя Феша все предусмотрела, даже войну. И у него во рту появилась тошнотная жидкая слюнка. Он сплюнул.
— Все пыхтишь, — сказала тетя Феша. — Бросил бы глупости. Дети, дом… О себе позаботься. Много ли нам житья-то осталось… Живешь хуже собаки… Давай сойдемся. Я люблю хозяйственных мужиков. Поддержу.
Апухтин молча перехватил доску и поволок ее дальше. Она глядела вслед и видела потную, потемневшую на спине рубаху и галоши, надетые на босу ногу и подвязанные веревочками. Эти галоши да выскакивающие из них черные пятки пронзили больно, ужалили в грудь. Дожил! Такой мужчина!
— Подумай! — крикнула вслед. — Я не тороплю.
Апухтин занес доску в сарай и запер, чтобы беженцы не сожгли. Вошел в дом. Юрий что-то писал в тетрадку. Апухтин умылся, размазав по рукам и лицу жидкое, похожее на мазут мыло, и сел за стол. Хорошо, что картошка была, хотя и прошлогодняя, но полевая. Он ел ее почти с удовольствием — рассыпчатая, горячая. Не картошка, пирожное. Помнится, когда-то были пирожные «картошка». Вкусные? Как-то не пришлось и попробовать.
Наевшись, он вышел на крыльцо и сел править гвозди. Он собирал их всюду — на работе, на улице. И вот правил.
Он положил горбатый ржавый гвоздь на ступеньку и, стукая молотком, выровнял, но еще грубо, приблизительно. Окончательно гвозди он выправлял на наковальне — точными ударами. Он сидел и тюкал молотком. Стукал и по пальцам и тогда, морщась, дул на них.
Вокруг было обычное, вечернее.