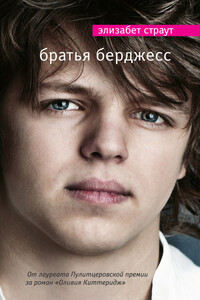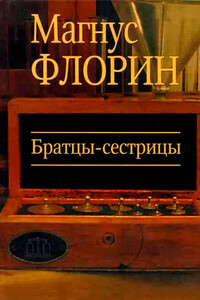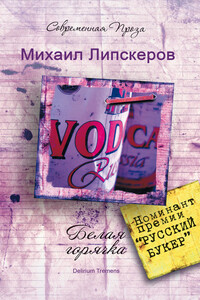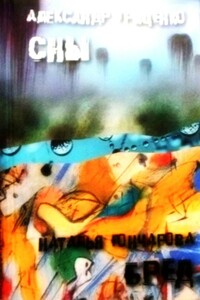Воспоминания о семьях Плоткиных и Эйзлер | страница 23
А еще он учил нас сохранять чистоту оборудования и инструментов. Нельзя было уйти с работы, не вычистив поддон и сам станок и не протерев станок и инструменты масляной ветошью.
В ГОМЗе большинство оборудования было немецкое. Правда, без электропривода, а работали они от общего вала, проходящего вдоль стены, через ременную передачу. В первые дни мастер собрал нас в мастерских и показал, как подключать станок к валу, как набирать при помощи нескольких рычагов нужную скорость, знакомил с устройством станка и показывал многие приемы работы. Потом с каждым из нас отдельно занимался, показывал, как выполнять те или иные работы на токарном станке. Наконец, наверное, через месяц, каждому поручил самостоятельно выполнить работу. Помню, мне поручил нарезать латунные заготовки из прутка. Я просунул пруток в патрон, выбрал отрезной резец, отмерил заданную длину заготовки и включил станок, забыв вынуть ключ из патрона. Массивная железная штуковина вылетела с огромной скоростью из патрона, но удачно — в противоположную от меня сторону, пробила окно и вылетела на улицу. К счастью, там никого не было. Повезло немерено и мне, и то, что никого не было на улице. Самое интересное, что мастер меня не ругал. Посоветовал быть в этой части внимательным, добавив, что это частая ошибка учеников. Через некоторое время нам дали задание изготовить контрольную деталь на присвоение разряда. Из восьми (в то время было восемь разрядов для станочников) нам присвоили второй разряд с соответствующими расценками. Я уже не помню, сколько тогда я зарабатывал (что-нибудь около 1000 рублей старыми деньгами).
Со временем разряд нам повышали, и было заметно, как росло мое умение в токарном ремесле. Как ни странно, работать токарем мне нравилось. И потом — рабочий класс, гегемон. Молод был.
Так благодаря стечению обстоятельств — выходу постановления ГКО непосредственно перед сроком моей мобилизации в артиллерийское училище — не состоялась моя карьера офицера Красной армии и предопределена была перспектива заводского труженика, рабочего-токаря.
II
В сентябре 1944 года начальник цеха сообщил, что молодежь мужского пола направляется на один месяц на торфоразработки. Нам выдали резиновые сапоги, ватник и рукавицы и на машине отвезли на торфоразработки за Колтуши. Помню, что на работу мы ходили через деревню, которая называлась Хирвости. Вообще вокруг Ленинграда сохранилось много финских названий. Ведь в северно-европейской части сегодняшней России жили угро-финские племена чудь, кемь, чухонь. А владели этими землями шведы. И только при Петре I эти земли стали осваиваться русскими. Места, где были торфоразработки, в прошлом представляли собой болото, торфяной состав эти болота содержали наверху. И мы становились на этих участках в два ряда, один перпендикулярно другому, и лопатами нарезали этот верхний слой на прямоугольники. которые потом подрезали и складывали в пирамиду с промежутками, где эти торфяные кирпичики сохли. Работа была тяжелая, и мы очень уставали. Жили мы в большом сарае, по обе стороны которого было постлано сено, которое было нашими спальными местами. На разработках в этих местах были рабочие ГОМЗа и учащиеся Военно-Механического техникума, размещенного в то время на территории завода ГОМЗ. Так случилось, что рядом со мной поместился учащийся этого техникума Володя Соколов. Он как-то спросил меня, почему я с 9-тиклассным образованием не учусь в техникуме, а работаю токарем. Я объяснил, что поступил на работу по путевке и не могу уволиться. На его вопрос, а хотел бы я учиться в техникуме, я сказал, что хотел бы.