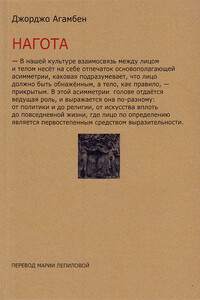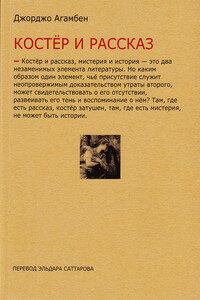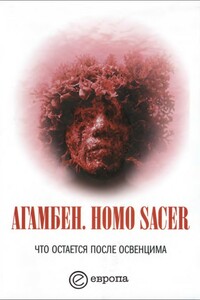Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь | страница 70
Исключение римской обрядности из исследовательского горизонта не было плодом пренебрежительного или поверхностного отношения, доказательством чему может служить пристальное внимание, которое Джизи, с полного одобрения учителя, уделил этой теме в своей книге, достойном продолжении «Двух тел короля» — «Королевский погребальный церемониал во Франции эпохи Возрождения» (1960). Джизи не мог не знать, что такие выдающиеся ученые, как Юлиус Шлоссер, и другие, менее известные, как Э. Биккерман, доказали наличие генетической связи между римским обрядом consecratio в эпоху империи и французским погребальным ритуалом. Однако совершенно неожиданно он отказывается занять какую–либо определенную позицию в этом вопросе («что касается меня, — пишет Джизи, — то я предпочитаю не солидаризироваться ни с каким из предложенных решений»)[169] и безоговорочно принимает мнение своего учителя о связи между изображением и вечной природой суверенной власти. У этой позиции, бесспорно, есть основания: если бы гипотеза о языческом происхождении церемонии с участием воскового изображения подтвердилась, тезис Канторовича о «христианской политической теологии» был бы опровергнут или по крайней мере нуждался в существенной корректировке. Однако было и другое, не столь явное основание: в римском обряде consecratio нет ни одной детали, позволяющей соотнести изображение императора с главным, верховным проявлением суверенной власти — с ее вечностью. Точнее было бы сказать, что мрачный, отзывающийся гротеском ритуал, предписывавший обращаться с изображением, как с живым человеком, а затем в торжественной обстановке предать его огню, отсылает нас к области, еще более темной и неопределенной — к области, в которой политическое тело короля словно сближается или даже сливается с подлежащим убийству, но не подлежащим жертвоприношению телом