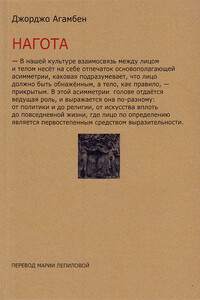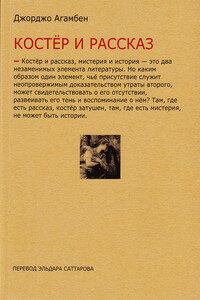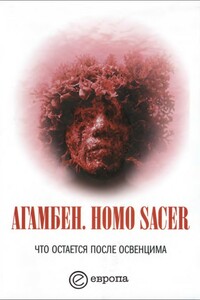Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь | страница 28
Б этой перспективе не удивительно, что Шмитт основывает именно на фрагменте Пиндара свою теорию об изначальном характере «номоса земли» и, тем не менее, ни разу не упоминает его тезис о суверенной власти как решении о чрезвычайном положении. Он хочет любой ценой утвердить здесь приоритет суверенного номоса как события, учреждающего право по отношению ко всем позитивистским концепциям права, вписывающим его в рамки элементарной конвенции (Gesetz). Поэтому, даже говоря о «суверенном номосе», Шмитт вынужден замалчивать сущностную близость между номосом и чрезвычайным положением.
Более внимательное чтение обнаруживает, однако, что эта близость присутствует совершенно явно. Чуть ниже, в главе «Первые глобальные линии», он в действительности показывает, как связь между локализацией и порядком, в которой заключается номос земли, всегда предполагает зону, исключенную из права, очерчивающую «свободное и юридически пустое пространство», в котором суверенная власть больше не знает ограничений, установленных номосом как территориальным порядком. Эта зона в классическую эпоху ius publicum europaeum[74] соответствует новому миру, который отождествляется с естественным состоянием, в котором все допустимо (как писал Локк: «в начале весь мир был подобен Америке»[75]). Сам Шмитт уподобляет эту зону «за чертой» чрезвычайному положению, «которое мыслится по аналогии с идеей ничем не занятого, пустого пространства с очерченными границами», понимаемого как «время и пространство приостановки действия всякого права»: