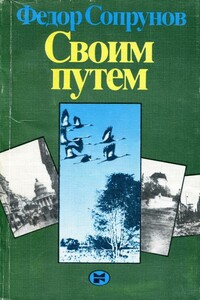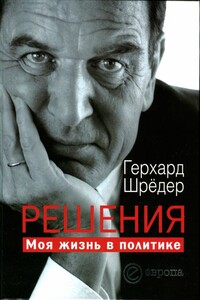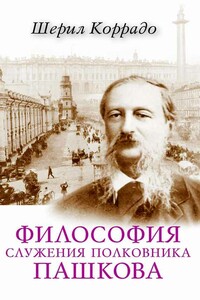Жестокий расцвет | страница 4
Ольга посвятила Борису еще одно стихотворение, написанное в 1939 году, но напечатанное впервые около двадцати лет спустя. Взяв слова Корнилова в качестве эпиграфа, Берггольц уже в самом начале стихотворения прямо отвечает на них: "О да, я иная, совсем уж иная!" Кончается же стихотворение строками, проникнутыми острой, неутихающей болью:
Не стану прощеные просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но еслм — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узвать,—
давай о взаимных обидах забудем,
по6родим, как раньше, вдвоем —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
Увы, к тому времени, когда писалось это стихотворение, Корнилова уже не было на свете. Встреча, о которой мечтала Берггольц, не состоялась.
Но в тот день, когда молчаливая Ольга и мрачный Борис сидели за столом в ресторане Дома печати, до всего этого было еще далеко.
Через некоторое время, когда я познакомился и, смею сказать, подружился с Ольгой и Борисом, они уже "ходили" врозь. Ольга со своим вторым мужем Николаем Молчановым ("Любовью моей. Всегдашней") жила на улице Рубинштейна, семь.
Дом, где она жила, давно известен под именем "слеза социализма". В его квартирах не было кухонь — жильцы кормились в общей столовой на первом этаже; с потолков и снаружи, по фасаду, нещадно текло. Отсюда и "слеза социализма". Один из его жильцов, Александр Штейн, впишет, что это название придумал другой жилец, Петр Сажин.
Мы с моим другом Иосифом Гринбергом — тогда совсем молодые, начинающие критики — чуть ли не каждый вечер захаживали туда к Юрию Либединскому, Михаилу Чумандрину, Вольфу Эрлиху. Но чаще всего бывали мы у Берггольц и Штейна. Если говорить правду, зачастили в "слезу социализма" не только из жажды общения с друзьями и не только из восхищения их прекрасными отдельными квартирами (роскошь, доступная по тем временам лишь немногим). На первом этаже "слезы" в обшей столовой нам никогда не отказывали в ужине. Тогда это было более чем существенно.
Друзья, конечно, видели нас насквозь. Едва мы появлялись, они спешили нас накормить. Даже саркастический Чумандрин, любивший подшучивать над нами, порой сам нас вел в столовую и хлопотал об очередном ужине.
Кто-то из бандарлогов (так по Р. Киплингу именовали себя обитатели "слезы") — то ли Чумандрин, то ли Либединский — окрестил Гринберга Фиалкой, а меня Ландышем. Нас эти прозвища, естественно, ужасали. В тех редких случаях, когда я приходил один, кто-нибудь непременно спраишвал: