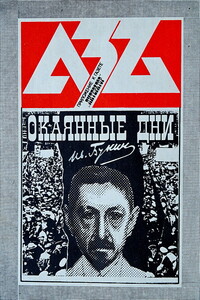Жестокий расцвет | страница 22
— В Раквере,— ответил я с некоторой опаской: уж не выдаю ли я еще одну военную тайну?
— Вот и отправляйтесь сегодня же в Раквере. И благодарите судьбу. С вами могло быть гораздо хуже. У меня все.
Подполковник повесил трубку, а я еще некоторое время держал ее в руках, не веря своему счастью.
Когда я вышел на улицу, Ольга кинулась ко мне:
— Ну что? Что тебе сказали?
Узнав, что меня с миром отпустили и приказали немедленно убираться восвояси, Ольга была, по-моему, даже разочарована. Она уже приготовилась за меня бороться, драться, пустить в ход все свое влияние... И вдруг все кончилось такими пустяками! Впрочем, она тут же от души расхохоталась:
— Эх ты, недотепа! Даже болтун — находка врага и тот из тебя не получился! Но неужели ты в самом деле сегодня уедешь? Как глупо! Кроме того, что все-таки делать с твоей отправкой на Дальний Восток?
Но меня это уже не волновало. В тот же день, нежно распрощавшись с Ольгой и поблагодарив ее за истинную дружбу, я уехал в Раквере.
А еще через некоторое время воинский эшелон, состоявший из множества теплушек, в которых разместился бывший штаб 8-й армии, повез меня на Восток. Но довез только до Новосибирска. Здесь мне было суждено пробыть еще год — на той самой гарнизонной службе, которой я так опасался.
"И ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ..."
Летом 1946 года пришел приказ о демобилизации и я простился с Новосибирском. В родную Пермь, где я ненадолго задержался по пути в Ленинград, пришла телеграмма от Прокофьева и Друзина: "Срочно выезжай для работы критическом отделе "Звезды". Мне оказывалось лестное доверие: после памятного постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" редакции обоих журналов обновлялись.
Осенью 1946 года я вернулся в Ленинград. Единственное окно моей комнаты на Геслеровском было забито фанерой. Я вставил стекла, отремонтировал комнату, запасся дровами (когда я сюда переехал, комната вообще не отапливалась, пришлось ставить печку; как жили здесь до меня Прокофьев, а затем Гитович, оставалось загадкой).
24 октября 1946 года мне выдали паспорт. Начиналась так называемая гражданская, иными словами — обычная человеческая жизнь. В первые же дни ее я повидался с милыми старыми друзьями — Германом, Добиным, Берггольц, Шварцем. Не вернулись в Ленинград Гринберг, Штейн, Беляев, Малюгин. До войны я общался с ними каждодневно.
Приближался новый, 1947 год. Мне предстояло встретить его снова в Ленинграде и наконец в штатском костюме. Было решено собраться у Ольги в той самой квартире, где два с лишним года назад демонстрировалось "единственное и блистательное единнение фронта с тылом". Ольга пригласила Германа с женой Татьяной Александровной, Шварца с женой Екатериной Ивановной и меня.