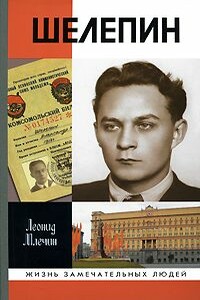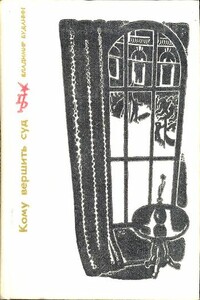Прометей, том 10 | страница 38
(IV, 447).
В последней редакции монолога Алеко есть ещё набросок нескольких стихов, которые в текст не вошли:
(IV, 446).
Здесь нельзя не узнать характеристики Александра Раевского.
Его выдают слова «коварный», «может быть», «клевета», «дружбы пени». В стихе о пенях дружбы угадываем мы пушкинскую характеристику письма к нему Раевского, уже вызвавшего ответ — стихотворение «Коварность».
Здесь появляется ещё не названная нигде черта — «любви тщеславные мечты». Вот как понимал Пушкин любовь Раевского к графине Воронцовой — она порождена тщеславием…
Дальнейшие строки:
(IV, 446).
Здесь речь уже о Воронцове. Вспомним письмо Пушкина к Казначееву, человеку порядочному. Пушкин написал ему в Одессе в начале июня 1824 года, когда Казначеев, по-видимому, урезонивал Пушкина в связи с прошением его об отставке, после истории с саранчой:
«Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренне меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чём мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О жаловании? Поскольку мои литературные занятия [дают мне больше денег], вполне естественно [пожертвовать им моими служебными обязанностями и т. д.] Вы говорите мне о покровительстве и дружбе. Это две вещи несовместные. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, ещё менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счёт у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.
Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моём отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной.
Единственное, чего я жажду, это — независимости (indépendance), простите мне это слово ради вещи; с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь её. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я ещё пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. Не могу понять