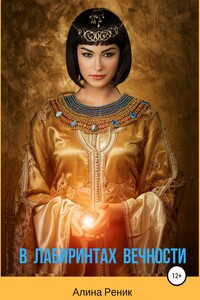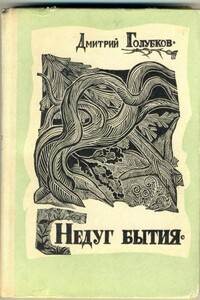Крик вещей птицы | страница 80
Радищев улыбнулся и приподнялся, опершись локтем на канапе.
— И что же, осуждает он барина?
— Нет, хвалит за правду, только не может уразуметь, почему барин идет против своих.
— Да, ему трудно понять.
Петр вышел, опять сомкнулась тишина, и в этой зыбкой тишине Радищев ощутил мягкую качку, какую он испытывал, когда сидел в карете, возвращаясь домой. И тут он вспомнил, что дорогой ему захотелось отыскать и прочесть «Дневник одной недели». Он быстро встал, надел башмаки, подошел к шкафу, открыл его и взял с нижней полки большую стопу бумаг. Потом сел за стол и начал их просматривать. Много же у него накопилось за минувшие годы этих исписанных листов. И чего только здесь нет! Наброски записок о податях, о подушном сборе. Описание земледелия в Петербургской губернии. Разные заметки о законодательстве. А вот рукопись юридического трактата. Так и не удалось его закончить и опубликовать. Жаль. Столько вложено в него труда! Столько изучено архивных документов и печатных научных томов, чтобы написать этот «Опыт о законодавстве»! Да, очень жаль, что он останется лежать в бумагах. Ведь главное его назначение — доказать право народа на высшую власть, чему посвящены и многие страницы «Путешествия». Нет, надобно во что бы то ни стало как-то сохранить сии листы, может быть, когда-нибудь удастся к ним вернуться. А тут что за отрывки? «Претерпев многие перемены, разрозненная на уделы, Россия… стала наконец соединена при царе Иване Васильевиче, который истребил остатки вольности новгородской…» Ага, это заметки к «Опыту о законодавстве». И дальше заметки. Заметки, заметки… Все надобно пришить к трактату, чтобы не затерялись… «Признание в преступлении есть лучшее доказательство. Но всегда ли ему можно верить? Вопрос ужасный». Да, вопрос ужасный. Верно замечено, Шешковский выбивает своей знаменитой палкой признания, а судьи им верят, и невинные жертвы ложатся на плаху. Очень важная заметка. Тоже ее к «Опыту». Но где же «Дневник одной недели»?
Дальше шли исторические выписки и замечания, и на Радищева пахнуло с потускневших листов теми уже далекими днями, когда он, уйдя во время расправы с пугачевцами с военно-прокурорской службы и прожив затем лет пять с думами о минувших событиях, так сильно потрясших империю, принялся заново изучать русскую историю, чтобы лучше понять судьбу великого трагического народа, а потом выступить со словом в его защиту. Анна Васильевна, любящая жена, цветущая, красивая, с грустью тогда следила, как ее муж, приходя из конторы Коммерц-коллегии, все меньше уделял ей времени, все равнодушнее становился к выездам и приемам, все чаще, задумавшись, заставлял ее повторять обращенные к нему вопросы. Она печально вздыхала, заметно блекла, ему до боли было жалко ее, но он все-таки запирался и читал. Читал летопись Нестора, историю Татищева, известия Миллера о происхождении российского народа и все то, в чем удавалось отыскивать хоть какие-нибудь следы прошедших веков. Что ж, добыто тогда немало, немало уже использовано, а эти выписки и замечания пригодятся еще в будущем, если будет оно, это будущее. Как, однако, странно толпятся эти однокоренные слова! Может, и в самом деле у тебя оно будет, будущее-то, раз так упрямо лезет в голову. Но куда же запропастился «Дневник одной недели»? Вот пошли бумаги, взятые когда-то Воронцовым в Сенате. Документы времен императрицы Анны. Доклады елизаветинских лет. Рапорты первых годов Екатерины. Полвека истории в этих сенатских бумагах. Надобно вернуть их графу Воронцову, да и свои можно отдать ему на сохранение. «Дневник одной недели» — детям. Куда он делся? Неужто затерялся? Нет, необходимо его найти. А, вот он! Ну-ка, ну-ка, что тут изображено?