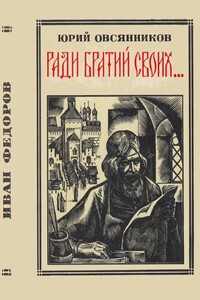Крик вещей птицы | страница 35
— Служит в счетном отделении Казенной палаты.
— И по-прежнему, конечно, прилежен, старателен. — Челищев тихо рассмеялся. — Помнишь, он все вечера сидел над своими записями лекций, никуда не ходил, и вдруг открылось, что от него забрюхатела дочка лейпцигского бочара!.. Ох, грехи наши, грехи! — Он нахмурился и грустно покачал головой. — Юность резвая. Даже тихони шалили, не говоря уж о проказниках.
— Завидую, — сказал Козодавлев. — Завидую и жалею, что не с первых дней был с вами в Лейпциге. Давеча вы говорили об этих диких скачках, а я слушал и с обидой думал о своей непричастности. Чужим, должно быть, кажусь вам. А напрасно чуждаетесь-то. И мы ведь пожили около вас, значит, тоже получили кое-какую заквасочку. А, вот и анисовая подоспела, и грузди. Похвально, похвально, малый. Позвольте, друзья, мне сегодня угощать вас. Давайте причастимся. Согреем души. Нальем полнее чарочки. Вот так. Ну-с, ваше здоровье, братья!.. Ах, хороша водочка! Александр, ты небось осуждаешь меня, затворник ты этакий? Нет, я не такой уж поклонник Бахуса. Говорят, каждую ночь все пишешь. Пиши, Нестор, пиши. Оставишь летописи нашего кровавого века. Надеюсь, они избегут судьбы Кремуциевых «Анналов». Потомки возблагодарят тебя.
— Не смейтесь, Осип Петрович. Ничего серьезного я не пишу.
— Я смеюсь? Батенька, я истинно верю в твои писания. Прочел недавно «Житие Федора Васильевича Ушакова» и тут же готов был поехать обнять тебя. Как написано! Смело, правдиво, умно.
— Да? — сказал Челищев, нехорошо усмехнувшись. — А я слышал, что у Державина ее ругали. Вы были там и не то чтобы заступиться, а туда же, обрушились на нее.
Козодавлев опешил, смешался, покраснел. Бедняга не находил слов, и надо было ему помочь оправиться от стыда, парализовавшего его с такой внезапностью.
— Друзья, — сказал Радищев, — книжка и у меня вызывает противоречивые чувства. То она мне нравится, то взял бы да и порвал ее на клочки. Верю, Осип Петрович, вы говорите сейчас искренне, но и там, наверное, высказали правду.
— Нет, позвольте, позвольте, — заговорил Козодавлев, очнувшись от удара, — тут надобно разобраться. Я вовсе не обрушивался на «Житие». Я только сказал, что оно написано слишком смело. Кому-нибудь угодно будет понять, да оно, пожалуй, так и есть, суть-то книжки не в том, что студенты взбунтовались и победили своего гофмейстера, это бы еще куда ни шло, но они, надо понимать, низвергли деспотию, так что дело-то не в Бокуме, тут исторический смысл, тут, если хотите, иносказание, этакий явный намек, а то и призыв, и я как раз о том и говорил, об излишней смелости, о некоторой неосторожности. Автора, дескать, неправильно могут понять. Заметьте, неправильно. Я нажимал на это «неправильно», чтобы предупредить разные кривотолки. А вы говорите — обрушился.