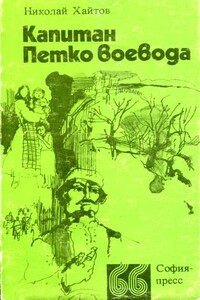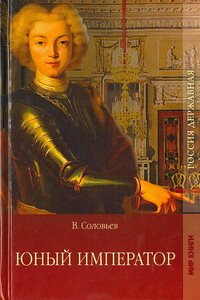Крик вещей птицы | страница 126
— Чего не спите?
Радищев узнал голос Петушкова.
— А разве не спать нельзя?
— Нельзя. Будете ходить — позову старшого.
Лицо отпрянуло, окошко опять на мгновение осветилось, потом на него опустилось что-то черное. Радищев подошел к двери и разглядел в полумгле, что за решеткой — вычерненная мешковина. Ага, значит, когда там, за дверями, горит фонарь, окошки завешиваются, а днем они освещают коридор. Днем надзиратели в сумраке, ночью — узники. В камере ни свечки, ни плошки. Что ж, ночи теперь не темны, арестантов из коридора видно, и этого достаточно. Лучший свет в этих норах ни к чему. Не читать ведь. Книгу в каменный треугольник, ясно, не пропускают. Книгой можно жить, заточенный же должен постепенно умирать, для того он и посажен и лишен всего, что необходимо человеку. У него не могут отнять только мысль, но и она, наверное, со временем иссякает. Ее может питать только память. Память — вот чем до́лжно теперь жить.
В тот момент, когда он, пройдя от двери до окна, повернулся обратно, опять приподнялась над дверной решеткой занавеска.
— Сейчас же в постель! — рявкнул Петушков.
Радищев отроду не слыхивал такого грубого окрика. Он опешил, замер посреди камеры.
— Последний раз упреждаю, — сказал Петушков.
Арестант сел на кровать и начал снимать башмаки. Да, инвалид мстит барину за все свои несчастья, подумал он. А может быть, солдату так и велено обращаться с арестантами, и он старается, иначе сам попадет в каземат и ляжет под розги. Кричит однако ж изрядно. Даже майор Бокум, на что уж зверь, и то так не гаркал на своих ненавистных питомцев. Да нет, гофмейстер тоже рявкал свирепо. Того удалось все-таки осадить. Лейпцигский бунт увенчался победой, но в крепости не взбунтуешь. Здесь невозможен никакой протест. Здесь ты одинок, совершенно одинок. Соседи-то, правда, есть. Вон кто-то кашляет. Глухо, едва слышно. Да, соседи есть, но попробуй-ка с ними объединиться. Никого не увидишь, ни с кем словом не перебросишься.
Он поставил башмаки под кровать, снял сюртук. Потом выдернул из-под грязной подушки серое суконное одеяло, откинул его. Под ним, конечно, не оказалось никакой простыни. Тюфяк был так затаскан, залоснен, что полосы тика, когда-то светлые и темные, сейчас почти не различались, хотя в камере было уже совсем светло. Радищев, привыкший к чистейшему постельному белью, не стал раздеваться и лег не только в штанах и чулках, но и в камзоле. Единственно, что было приятным в его постели, это запах свежей рогожи, которой, видимо, недавно набили тюфяк и подушку. Чтобы укрыться и в темноте забыться, заснуть, он натянул на голову суконное одеяло, но тут же сбросил его с себя, потому что оно было сырое и пахло гнилью. В Лейпциге он больше четырех лет укрывался ситцевым стеганым одеялом. В последнее время оно было уж все в дырах, однако гнилью от него не пахло, к тому же Бокум каждому своему подопечному ежегодно давал одну простыню и наволочку, и без белья приходилось спать лишь тогда, когда его забирала прачка. Господи, неужто теперь придется поминать добром лейпцигского деспота? Конечно, он содержал своих питомцев несколько лучше, чем в тюрьме, но они ведь были студенты, а не арестанты, и бунт-то возник не столько из-за тухлой зайчатины и скудной одежды, сколько из-за того, что властолюбивый майор жестоко подавлял свободу. Правда, поводом к мятежу послужила холодная комната бедняги Насакина. О, как зримо он вынырнул сейчас из тех далеких лет! И всплыл весь Лейпциг. Вот когда и вот где писать бы «Житие»-то. Руссо говорил, что, если его посадят в Бастилию, он нарисует великолепную картину свободы. Верно сказано. В тюрьме оживает прошлое, потому что нет настоящего. Как ясно видно отсюда, из камеры, всю лейпцигскую жизнь, всех друзей! Вон Федор Ушаков сидит за общим обеденным столом и с усмешкой смотрит на немца-репетитора, приставленного Бокумом подслушивать разговоры, смотрит и говорит: «Господин репетитор, переведите, пожалуйста, слово «Ohrenblaser». — «Наушник», — опрометчиво переводит немец, но, спохватившись, поняв, в чем дело, постыдно краснеет. Федор изводил своей беспощадной насмешкой доносчиков, но к товарищам был трогательно добр, всячески защищал их и каждого учил сражаться за свое человеческое достоинство. Когда бедняга Насакин пришел к нему из гофмейстерских покоев в слезах и с красной щекой, он созвал всех друзей к себе в комнатушку. «Ну, юноши, — сказал он, — будем терпеть и дальше? Посмотрите на вашего товарища. У него пылает щека от позорной пощечины. Он прозяб в своей сырой каморке, занемог, пошел сегодня к майору фон Бокуму, попросил дров и получил оплеуху. Что же, стерпим и это? Или пойдем сию минуту к гофмейстеру и потребуем объяснения?» — «Пойдем!» — ответили все в один голос. И пошли. И перепугали Бокума. Он поехал в Дрезден к русскому посланнику и испросил у него (а тот — у саксонского курфюрста) разрешения обращаться в случае какого-либо беспорядка к лейпцигскому военному начальству. А студенты получили от посланника письменное разъяснение, что гофмейстер поставлен над ними самой императрицей и всякое непослушание впредь будет рассматриваться как неповиновение монаршей власти. Грозное предупреждение, однако, не напугало студентов. Что ж, если в лице наглого гофмейстера представлена здесь императорская власть, они восстанут и против нее, как только Бокум начнет снова на них наступать… Нет, они сами пошли в наступление. Однажды (это было уже летом) Трубецкой и Несвицкий, юные гордые князья, ворвались в хоромы гофмейстера и заявили, что они отказываются слушать скучный курс профессора Беме и будут ходить на лекции Шмидта. «Что? — вскинулся майор Бокум. — Что вы изволили сказать? Отказываетесь от профессора Беме? Врете, будете слушать те курсы, кои вам предписаны. Ишь, к Шмидту они захотели! К этому вольнодумцу, который все время твердит, что государством должны управлять философы. Шалите, государством управляли и будут управлять государи, а вам, господа, надлежит подчиняться нашей государыне. Я здесь поставлен выполнять волю ее императорского величества, а не потакать вашим вольностям. Вон отсюда!» — «Не беситесь! — вскричал горячий Трубецкой. — Мы вам не мальчики. Вы окружили нас репетиторами-доносчиками, тупицами…» — «Замолчать!» — крикнул гофмейстер. Князья повернулись и вышли, гневно хлопнув дверью. А через час в доме появился солдат, который взял Трубецкого под стражу, заперев его в пустой чулан, предусмотрительно подготовленный для такого случая. На этот раз Федору Ушакову не понадобилось созывать товарищей, — они сами собрались в его комнатушке. Собравшись, спустились всей гурьбой в первый этаж, вошли в столовую (эта комната была и гофмейстерской прихожей), вызвали Бокума и спросили, за что арестован Трубецкой, но майор и отвечать не стал. «Я не обязан давать вам отчет», — сказал он. «Ну хорошо, — сказал Федор Ушаков, — мы подумаем, как с вами говорить».