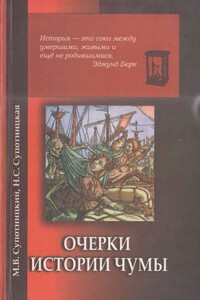Эволюционная патология | страница 55
«Выдающимися» примерами такого подхода стали объяснения холерных пандемий заносом больными холерного вибриона из холерных местностей и возрождение раннесредневековых взглядов на эпидемиологию чумы, как на болезнь, распространяемую кораблями. Правда, теперь роль переносчика «чумного контагия» играли не вещи больных чумой, а инфицированные крысы.
Нельзя утверждать, что противоречий и «пробелов» в этих представлениях никто не замечал. Артефакты накапливались и требовали объяснения. Еще в 1956 г. W. Drozanski описал облигатные внутриклеточные паразиты свободно живущих амеб. Тогда эти микроорганизмы назвали Sarcobiumlyticum, но в последствии было установлено, что они относятся к опасному для людей семейству бактерий Legionella и их реклассифицитовали. Сегодня они известны как Legionellalytica. В 1958 г. В. И. Терских на основе своих наблюдений заново обосновал положение о том, что внешняя среда может служить средой обитания патогенных микроорганизмов.
Под давлением эпидемиологических наблюдений Mollaret H. (1963), первым среди чумологов, был вынужден вернуться к забытому в начале XX столетия учению Макса Петтенкофера (правда, не упоминая его имени), предполагающему участие почвы в поддержании в природе возбудителей опасных инфекционных болезней. Смысл его гипотезы сводится к тому, что чумной микроб при наличии соответствующих условий может длительно персистировать в почве нор грызунов (теллурическая чума). Развивая гипотезу Mollaret, М. Балтазар (1964) пришел к заключению, что цикл чумы в природных очагах состоит из двух фаз: паразитической (на грызунах и их блохах — кратковременной и неустойчивой); и непаразитической (существование в почве нор — устойчивой). Однако где находится первичный резервуар возбудителя, эти исследования не прояснили. Чумологи по-прежнему рассуждали о заносе чумы кораблями и о тому подобных «научно обоснованных» фактах.
Прошла незамеченной работа С. В Никульшина с соавт. (1993), показавших способность ряда амеб фагоцитировать Y.pestis и сохранять ее в предцистах. Механизм и эпидемическая значимость этого явления оставались непонятным до открытия явления «некультивируемости бактерий» и разработки методов молекулярной диагностики.
Суть феномена «некультивируемости» заключается в следующем. Исследователи обнаруживают микроорганизмы в одноклеточных животных (простейших) методами молекулярной диагностики, но не могут подтвердить их наличие культивированием на искусственной питательной среде. С антропоцентристской точки зрения феномен объяснялся просто — случайностью; микроорганизм случайно попал в неблагоприятную для него среду (благоприятная среда, разумеется, питательный бульон, приготовленный в лаборатории этих исследователей) и находится в состоянии стресса. Однако границы феномена оказались значительно более широкими, чем это можно ожидать от «случайности».