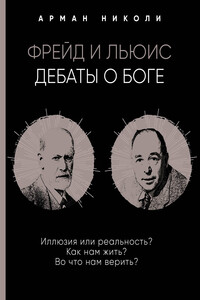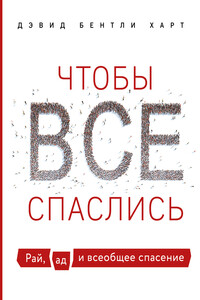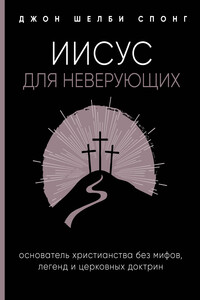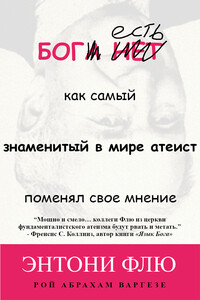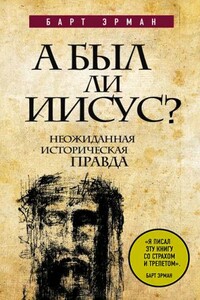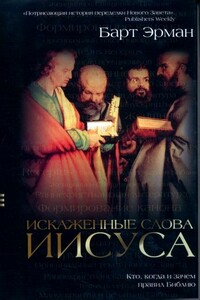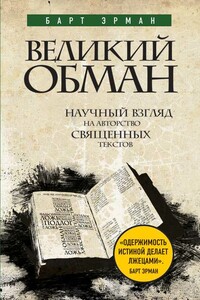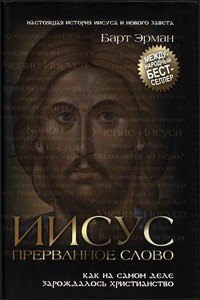Триумф христианства | страница 93
Для язычников культы, которые исповедует человек, как правило, не служили отличительным признаком идентичности. На вопрос: «Кто ты?» язычник бы вряд ли ответил: «Я поклоняюсь Аполлону»; такой ответ не более вероятен, чем для современного человека – «Я предпочитаю морского окуня»[118]. Люди время от времени поклонялись Аполлону – так же, как многие из нас время от времени едят морского окуня, – но никто через это себя не определял. И объясняется это, несомненно, тем, что выбор Аполлона, как и выбор морского окуня, – лишь один из множества выборов, которые совершаем мы ежедневно, с уважением к религии и к кулинарии[119].
Но не таким было христианство. Христианского бога, как правило, выбирали не как одного из богов, которым можно поклоняться. В этом случае выбор был эксклюзивным. Выбрав одно, человек становился противником всего остального. Представьте себе гурмана, который ест только морского окуня – и никакой другой рыбы не признает! Вот так же странно выглядело это и для большинства язычников.
Эту отличительную черту христианства ученые отметили уже давно, еще со времен Артура Дарби Нока, чья книга «Обращение» стала одним из классических трудов по этой теме[120]. Нок пишет о том, что принципиальное различие между языческими религиями и христианством состояло в разнице между «приверженностью» и «обращением». В язычестве у каждого была возможность в любой момент стать «приверженцем» какой-либо новой религиозной практики, и это ничего не значило. Не было ощущения, что, обратившись к новому культу, человек отворачивается от предыдущих. Именно это ощущение, что прошлое остается в прошлом, что для тебя начинается некая совершенно новая жизнь, Нок и называет «обращением».
Нок использует здесь старинный смысл слова «обращение», тот, который я ранее в этой главе критиковал: полное, всем сердцем и душой, обращение к чему-то новому и формирование привязанности к нему. Однако Нок ясно понял: тому, чего ожидало от новообращенного традиционное христианство, точных параллелей в язычестве действительно не было. Он признает: в философских традициях античности можно найти нечто, отчасти схожее с обращением. По крайней мере, некоторые философские школы выглядят взаимоисключающими: эпикуреец не может быть в то же время стоиком, а киник – перипатетиком. Эти перегородки не были жесткими, и, разумеется, встречались любители философии, переходившие из одной школы в другую. Но, строго говоря, истинный ученик Аристотеля никак не мог быть одновременно последователем Эпикура. Это отчасти напоминает нам христианство.