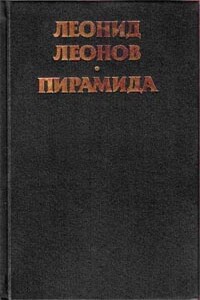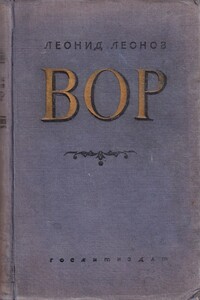Провинциальная история | страница 9
— В третью дверь суюсь, а везде занято, — шутливо начал я, избегая ее насильственной улыбки. — Дом-то ваш как часы стал: везде колесики, зубчики, пружинки. Своенравный какой господин, Суковкин-то этот!
— В рабах живем, Ахамазиков, — сурово сказала старуха. Я сделал вид, что не поверил ей, похохотал, подхлестывая молчание шуточками, от которых и сам обливался мурашками стыда. Лишь беспечная моя болтовня и держала ее в забытьи; остановиться — тотчас же она взглянула бы на меня и поняла бы гаерство моего оскорбительного сочувствия. Уже минуты три дикобразил я, изнемогая от созерцания этого монумента материнской горести, как вдруг в кухню вошел сам Василий Прокопьич. При виде меня он что-то вспомнил, смутился и как-то заюлил, а кончил тем, что торжественно пригласил меня в кабинет для секретной беседы. В подозрениях и тревоге я последовал за ним.
Лишь потому называлась кабинетом проходная эта комната, что стоял здесь рабочий стол, а вообще-то была пустынновская спальня. Две деревянные кровати, столярный опыт самого Василья Прокопьича, стояли в углу, пара полотенец висела над ними… да и все здесь было попарное: старики честно делили и огорчения и блага жизни пополам. На столике, сделанном из старого ящика и покрытом салфеточкой, лежала раскрытая Библия. Пока хозяин ходил за стульями, я заглянул: Василий Прокопьич читал об отце отцов земных, Ное. На видном месте, против кроватей, висел фотографический портрет мужчины, увеличение с маленькой карточки. Перекошенное расплывчатое, как видение, с выпуклыми глазами лицо мужчины было ужасно, хотя фотограф и пытался смягчить его усиками. Но и сквозь искажение это я увидел в нем знакомые Лизины черты и смятенно догадался, что это и есть Петр Голевский. Значит, так нужно было Пустыннову, чтоб беспрестанно, днем и ночью, глядел в него повешенный его друг.
— Известно ли тебе, Ахамазиков, — приступил Васил Прокопьич, внося стулья, — что не все у нас благополучно?
— Помилуйте, откуда же мне… — осмотрительно вильнул я.
— Андрей растратил три тысячи рублей.
— Андрей Васильевич прохвосты, — сочувственно осудил я.
— Не спеши… Не сердись на дружескую правду, но ты глуп, Ахамазиков. Нет, не обижайся, я высоко ценю твое сердце! — придержал он меня за колено, заметив мое движение. Андрей честный, он у меня славный, он не вор, Яшка врет. Яшка думает, что жизнь можно пристращать параграфом. Нет, жизнь стоит на земле, темной и… не девической.