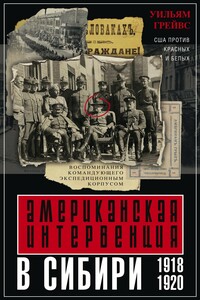Заметки о войне на уничтожение | страница 13
Меняется по ходу повествования и отношение автора к местному населению. Война перемешала все эпохи: среди обломков гибнущего Советского Союза и реликтов давно стертой с карты Российской империи новая немецкая власть пыталась укрепиться с помощью виселиц и расстрелов. Глазам оккупантов представали дотла выгоревшие, разбомбленные города, горькая крестьянская нищета, разоренные храмы, заброшенные разбитые склепы «бывших людей». Непроходимые чащи прятали разгромленные соединения, скрывали скитающихся оголодавших окруженцев. Одни местные жители выдавали партизан, другие сами становились партизанами и жестоко мстили первым. По бесконечным просторам полыхающей страны бродили толпы обездоленных беженцев.
Осенью 1941 г. грязные крестьяне, теснящиеся в грязных избах грязной деревни под названием Грязново, представляют для Хейнрици интерес скорее энтомологический. Он высокомерно лорнетирует их, почти как клопов, которых верный денщик извлекает из его брюк. По совету одного из своих переводчиков он даже перечитывает русскую классику — Николая Лескова и Льва Толстого — и находит в ней ответ на вопрос «Почему же в России всё настолько отсталое и заброшенное?» — потому что русские крестьяне добродушны и послушны, но ленивы и безынициативны. Коммуникация с местными сведена к минимуму: у них отбирают продукты, а в случае неповиновения вешают. На этом фоне идеи Розенберга о колонизации советской территории и превращении России в ресурсно–сырьевой придаток воспринимаются генералом одобрительно.
Проходит всего лишь год, и интенции в корне меняются. Нет, Хейнрици по–прежнему относится к русскому населению в целом неприязненно, но внезапно обретает интерес к психологическим нюансам, ранее игнорированным: желает склонить настроения местных жителей в свою сторону, радуется тому, что «общее отношение стало более дружелюбным и открытым» и даже соглашается с тем, что «лишь вместе с ними, а не против их воли следует завоевывать Россию. Кто владеет народом, тот владеет Россией». Впрочем, эти благие пожелания так и остались сухой теорией: до самого конца оккупации на занятых нацистами российских территориях не было введено никаких политических свобод.
Хейнрици шокировало падение нравов, глубина насилия и деформация человеческого поведения, которые он неоднократно сравнивал с Тридцатилетней войной. На его глазах едва надевшие униформу немецкие обыватели превращались в кровожадных и безжалостных ландскнехтов. Особенно показательна история Ганса Бейтельшпахера, одного из переводчиков генерала. Он родился в 1905 г. в немецком поселке под Одессой, учился сначала в Новороссийском университете, затем, перебравшись в Германию, в Штутгарте. Стал ученым–почвоведом, в 1933 г. защитил диссертацию, работал в Кёнигсбергском университете. Был призван в вермахт, служил в чине лейтенанта в разведотделе корпуса. Осенью 1941 г. организовал отряд по борьбе с партизанами, после чего «никогда не возвращался, не пристрелив или не повесив нескольких разбойников». Именно его Хейнрици просил не вешать партизан прямо под окном — натруженным очам генерала представал «не самый приятный вид с утра». Отметим, что после войны Бейтельшпахер не понес никакой ответственности за совершенные им преступления и продолжил успешную научную карьеру почвоведа в Брауншвейге.